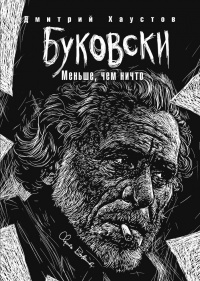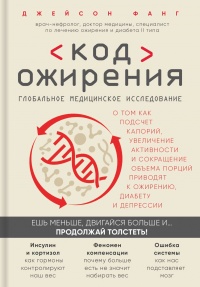Книга Лекции по философии постмодерна - Дмитрий Хаустов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Эпистемологическое, я настаиваю, понятие симулякра ставит под сомнение правомерность суждений о реальности. В том мире, где множество информационных уровней постоянно сталкиваются между собой, подобное суждение опровергается примерно одинаковым качеством претензий этих уровней на оригинальность. Как на конвейерной ленте, никакой из них не реальнее, не оригинальнее другого. Впрочем, существует критический взгляд на конвейерную ленту, который тем самым располагает себя вне ее, то есть вне порядка симуляции. Это взгляд самого Бодрийяра и всех тех, кто решается посмотреть на ситуацию его глазами, продумать его концепты, пройти ходом его мысли. Этот критический взгляд оказывается единственной привилегированной позицией, возможной в дискурсе о симуляции: если все является симуляцией, то утверждение о том, что все является симуляцией, само оказывается не симуляцией, но истиной – реальностью, оригинальностью, подлинностью. В этом смысле Бодрийяр по-своему воспроизводит знаменитый парадокс лжеца: когда он говорит, что все лгут, почему мы должны ему верить?
Мы вновь сталкиваемся с такой ситуацией, в которой критический дискурс высказывается обо всем, кроме самого себя – значит, он высказывается не обо всем. Серая зона, в которой оказывается критический дискурс по отношении к своему собственному содержанию, вселяет надежду на преодоление нового тоталитаризма – на этот раз тотальности симуляции, установленной через репрессию реального уровня. Реальность всякий раз прорывается через критику именно в том месте, где критика пытается звучать правдоподобно. Высказывание об истине, конечно, запрещено, но только при условии истинности самого этого запрета. Следовательно, в определенных случаях высказывание об истине вполне допустимо. Если мы присмотримся, то заметим, что оно допустимо в подобных серых зонах любого критического дискурса, будь то археология Фуко или мифология Барта, как и симуляция Бодрийяра. Всякий раз критик выстраивает такой метаязык, которому удается ускользнуть от правил своего языка-объекта. Если объектом выступает симуляция, если объектом выступает мифология или идеология, то тот дискурс, в котором формулируются высказывания об этом объекте, сам не должен быть симуляционным, мифологическим или идеологическим. Как всегда, мы спасаемся в ковчеге критического дискурса, в ковчеге самого языка: будучи принципиально пластичным и многоуровневым, он позволяет нам сохранять реальность и истину там, где это выглядит наименее наивным – в языке философии, который обладает удивительной способностью выстраивать метаязык в отношении любого языка-объекта, тем самым резервируя себе место за плотной стеной, которую не пробьет ни одна симуляционная логика.
Говоря деконструкция, мы говорим Деррида. Философ, конечно, становится заложником своих идей – но деконструкция и сама по себе работает так, что не стать – и не будучи ее непосредственным автором – заложником ее очень непросто. Открытость философского жеста, предполагаемая деконструкцией, такова, что она пьянит и затягивает – так, что мы попадаем в действительность бесконечного сдвига: каждый шаг вперед уже предполагает следующий шаг, и из этой теоретической гонки практически невозможно выбраться.
Наш главный вопрос: что такое деконструкция? Сразу скажу, что никакого окончательного ответа на этот вопрос Деррида не дает, более того, сама претензия на окончательность некоторого ответа деконструкцией вымарывается из философского поля. Это, безусловно, усложняет работу, но тем интереснее. Когда мы оставляем претензию на окончательность и покидаем, тем самым, область больших (окончательных, целостных, террористических) нарративов, мы оказываемся в пространстве философского микроанализа, где главным оказывается фрагмент, деталь – вплоть до малейшего знака препинания. Такая аналитическая микроскопия не всем придется по вкусу. Однако возможности ее невероятны.
Переходя от больших нарративов, которыми порой занимается философия – общество, мир, человек, – к микроанализам, коренящимся в работе с самим языком философии, мы сталкиваемся с необходимостью такой критической рецепции истории философии, которая предполагает очень обширные познания. Хороший писатель (философ) – это прежде всего хороший, очень хороший читатель. Жак Деррида был одним из лучших читателей философии в ее долгой истории, поэтому за ним практически невозможно угнаться. Но это не страшно: оставив претензию на окончательность, мы также решили, что угоняться за кем-либо, в общем-то, незачем – можно, как говорил Деррида, взять какой-нибудь крохотный параграф, отрывочек и копаться в нем до скончания дней. Пафос деконструкции заключается в том, что найти там можно целый мир. Более того, это честнее – прорабатывать деталь, держаться текста и буквы, а не подменять их громоздкими смыслами, выуженными из болотистого ниоткуда.
Хорошими вступительными текстами в подходе к проблематике деконструкции являются «Позиции»[24] и «Письмо к японскому другу»[25]. Их характер ознакомительный, но уже из них отчетливо видно, с чем мы имеем дело в том числе в случае больших текстов Деррида. Ознакомление – и демонстрацию метода – лучше всего начинать с самого термина: де-кон-струкция. Вслушаемся в его композицию. В корне этого слова слышится то же, что и в структуре, в строении, в постройке. Struo: строить, сооружать, складывать, располагать, а вместе с тем планировать и задумывать. Еще важнее то, что у нас тут сразу две приставки, и вся ирония заключается в том, что они обладают прямо противоположными значениями. Во-первых, это отрицательная приставка «де» – ее можно перевести как «раз» в смысле «раз-рушения». Если оставить только ее, то мы получаем деструкцию, то самое разрушение – как процесс, обратный строению и построению, как разбор чего-то построенного, его разнесение на исходные части. В истории философии был этот термин – деструкцией метафизики занимался Хайдеггер, наиболее важный предшественник для Деррида. Однако теперь мы должны сделать еще один шаг, удаляясь от Хайдеггера с его деструкцией, и добавить, во-вторых, положительную уже приставку «кон» – в этом случае мы получаем привычную нашему уху «кон-струкцию». Это уже составление и совместность – конструирование частей в единое целое. Синтезируя эти противоположные значения, мы получим нечто вроде «раз-со-положения», «раз-со-ставления», то есть некоторую работу или деятельность, направленную сразу на сборку и разбор данной целостности. Нам нужно представить единый жест, в котором нечто сразу собирается и разбирается, конструируется и разрушается – этакий психотический и параноидальный жест, который – как парадокс – заключен и в названии известной немецкой группы Einstürzende Neubauten, то есть «новостройки, которые вместе с тем разрушаются» – жуткое зрелище для склонной к порядку европейской ментальности. Такова и деконструкция: в одном жесте – утверждение и отрицание, да и нет.
Целое, которое в самом жесте своего полагания в то же время и распадается, разрушается – это уже не целое. Таким образом, первое, что мы можем сказать о деконструкции, – она направлена на устранение целостности целого. Отметим, однако: не просто на разрушение (тогда была бы деструкция), но именно на устранение целостности – через такое прочтение, которое в каждом моменте своего вкрадчивого и кропотливого полагания предмета обнаруживало бы – не то что специально подстраивала – его собственное ускользание от бытия-целым. Напряжение между противоположными приставками означает, что мы, в общем-то, не разрушаем объект, но сам объект рушится в акте его конструирования, или полагания. Философ, может быть, и хотел бы, чтобы его предмет – а это все-таки история философии – сохранился в целости, претендовал на крепость, устойчивость. Поэтому он конструирует, собирает отрывки (слова, предложения) в целом своей работы. Но тут открывается, что объект не складывается, он разрушается в ходе работы – поэтому, теряя свой якобы целостный объект, и сама работа перестает быть целой, она постоянно членится и отсрочивается, бежит куда-то вперед, где обещан искомый объект, но и там его нет – и так далее, далее, далее.