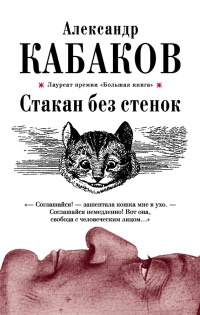Книга Страх - Олег Постнов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Проснулись мы далеко за полдень. Веселые жильцы часов наигрывали свой гавот. Монахи — и в Лавре, и в часах — молчали. Было чудо как хорошо лежать, лениться, вздрёмывать и просыпаться опять, тем более что Настя притащила с кухни в постель бутерброды.
— А что толку от твоих наблюдений? — спросил я наконец ее, потягиваясь и запивая последний кусок теплой водой из чашки. — Неужто в наш век можно что-нибудь рассмотреть, чего еще не нашли другие?
— Нет, конечно, — сказала она безмятежно. — Мне просто всегда хотелось иметь свою обсерваторию. Вот я и… — Она добавила смешной, но крайне похабный каламбур, глядя на меня с веселым видом.
— Значит, я тебе помог, — сказал я, тоже смеясь.
— Да, это было дивно.
— Пожалуй. А ты знаешь, что в Афинах была запрещена астрономия?
— Как так?
— Так. Перикл запретил ее. На звездочетов полагалось доносить. Это называлось эйсангелией.
— Чем они ему помешали?
Я коротко (так как зевал), но связно изложил концепцию официального безвременья.
— Что ж, Перикл хорошо сделал, — сказала Настя, уютно переворачиваясь на другой бок. — Мы-то, конечно, все коперниканцы. А вот Птолемей, между прочим, тоже был царь.
— И что ж?
— То, что множественность миров — это уже демократия. И, как водится, гадкая или тупая. Знаешь, всякий там сброд… Один сказал так, другой иначе. На звезды пялиться вообще вредно. Отвлекает от насущных дел. Бруно сожгли не зря — как ты думаешь?
— А ты, я вижу, тоже католичка! — сказал я, не удержавшись.
Она усмехнулась:
— Тут главное то, что я права.
Я не нашелся что ответить.
Мы повторили вылазку еще раз или два.
Мне снова трудно передать все очарование этой совсем краткой, почти мгновенной поры моей жизни. Именно эта краткость, как я уже говорил, идеально абстрактная по сравнению с реальной густотой всех проявлений наших душ и тел, как раз и составляет главную трудность. Мне всегда казалось, что те из любимых моих писателей, кто пережил эмиграцию, стали навеки рабами судьбы, — не в том смысле, конечно, который подходит ко всем нам, а в том особенном, неуловимом значении, которое связано, так сказать, с настроем их лиры. Как будто ничто в этом мире больше не интересовало их, кроме хитросплетения нити из кудели мифической Парки. Я и сам привык думать о себе и других так. И не перестал думать теперь. Но именно тогда мне показалось вдруг, что эпицентр моего бытия (если только такие слова уместны по столь скромному поводу) непостижимым образом сместился, вовсе нарушив привычный расклад цен и чувств.
Не умею иначе это объяснить. Но когда однажды я увидел себя вновь в зеркале Русского музея, опять подающим плащ (был дождь), только теперь Насте, а не Тоне, я мог бы поклясться, что этот румяный жизнерадостный господин с залихватскими бачками на висках никогда в жизни не сновал меж костелом и Трехсвятительской, никогда не курил один за другим куцые окурки на кухне в Троещине, не беседовал с Женщиной в Белом и даже не знает, что такое горячка, плоскодонка или — тем паче — ведьмин гроб. И лишь раз, найдя на полу заколку для волос, я сразу понял, что она чужая, что Тоня когда-то жила здесь, но ничего не сказал Насте, лишь выложил на стол эту золотистую прищепку с частоколом неострых зубцов, почему-то памятную мне, — и в тот же день она исчезла сама собой, словно растаяла. Без комментариев. Настя, я знал, никогда не носила таких.
В ней вообще не было никакой тайны — верно, это особенно хорошо действовало на меня. Мне даже расхотелось совсем разбираться в Гёльдерлине: и я бы просто оставил его на той полке, где он всегда прежде стоял, если бы не забыл о нем. И, помню, был искренне поражен, когда однажды, вернувшись после очередной поездки к деду, — оброк, которого требует прошлое, как, в конце концов, ни думай о нем, — застал у Насти сутулого, жилистого, но очень при этом вялого и немолодого уже человека, который был тотчас представлен мне как внук Я. Г. Мне кажется, он с такой же ленивой неохотой рассматривал Эмпедокла, с какой я ему его отыскивал в своем портфеле и потом нес. Нет, этот почерк ему незнаком. Что ж, очень жаль, хотя любопытно… А вы знаете, что почти весь тираж сгорел? Ведь это был первый год войны. Да что вы! Да. У книг Я.Г. своя судьба; вы не слыхали, кстати, о детском прозаике Ч***? Так вот, он даже сочинил по этому поводу грустную сказку… Виноват? Да, вы правы, у него все сказки грустные…
Гёльдерлина я опять сунул к себе, дообщавшись с внуком.
— Вот что, милая, — сказал я Насте, когда он ушел. — Избавь меня впредь от всяких таких теней… И тенёт.
— Ох, с удовольствием! — вздохнула она и рассмеялась.
Мне, впрочем, вновь уже пора было лететь домой. Правда, по закону смещения центра — что-то из области той фантастики, которой зачитывался некогда мой дядя Борис, — мне казалось теперь, что я еду наоборот, из дому прочь, и что это, может быть, ненадолго. Тут я, конечно, просчитался, что не мудрено: кто-то древний и очень мудрый, теперь уже не вспомню кто, сказал как-то к слову, что время было придумано богом, чтобы дать человеку понятие о бесконечности. А в том числе, я думаю, и о кратком слове, без которого не обходятся ни любовь, ни смерть: навсегда. В самолете рядом со мной сидел малыш, страдавший от больного молочного зуба. Тот никак не хотел выпадать и всю дорогу ныл. Малыш тоже ныл, я же чувствовал с грустью, что это все не так просто, что прежний мир предъявляет мне исподволь свои права, что это, в общем, так и должно быть, ибо я уже давно изучил его ухватки. Потому, мне кажется, я был не слишком удивлен, когда, войдя в квартиру, застал тетю Лизу в слезах: только что был врач, мать увезли в клинику, какую-то новейшую, полную модных светил, творивших чудеса, но тут твердо знавших, что чуда не будет. Я тоже это знал. Тряский вагончик «неотложки» доставил матери много боли: у нее болела спина, кости; руки были в синяках, похожих на большие фиалки.
Из больницы я вернулся один. Уже едва веря, что еще сегодня утром, еще часов пять назад я был в Киеве, по какой-то странной прихоти чувств я стал наводить, где мог, порядок: занятие, так же всегда обреченное на неуспех в нашем доме, как и попытки победить смерть. Когда я вымыл пол, то уже понимал, что в Киеве я не был. Да, признаться, теперь я думаю, что это действительно было так. Не нужно смешивать разные вещи, хотя мир нас всегда к тому толкает. Между тем физическое время (та же фантастика, дядя Борис) только выдумка авторов, может быть, правда, древних. Его последовательность — мираж. Жалок тот, кто верит маре. Что до меня, то я давно понял ее обман. Если уж на то пошло, то этот национальный буддизм у меня в крови, говорил я себе. И меня не проведешь играми иллюзий. Прошло дня три. Вечера были лучшим временем для меня. Возвращаясь от матери, я отключал везде свет и, чтобы побороть дрёму, сидел на кухне, читал, иногда курил. Грел в старом ленивом электрическом чайнике чай. Этот островок уюта как-то поддерживал меня, хотя ненавистный с детства мегаполис начинался сразу за его порогом, чуть не в гостиной. И когда в прихожей на четвертый день рявкнул звонок, я вздрогнул, весь вспотел (впрочем, была жара), подобрался и даже думал было вовсе не открывать. Потом все же пошел. Это был странный сюрприз: на пороге стояла Настя. Свой обычный заплечный ранец она держала в руке.