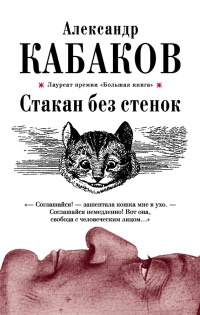Книга Страх - Олег Постнов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Квартиру я полюбил тоже новой, особой любовью, призванной заместить утраты и такой же стремительной, как и все происходившее в ней. Правда, нужно сказать, — хоть, впрочем, об, этом не трудно и догадаться, — что слово «стремительный» уместно здесь лишь отчасти. Отдавая дань традиции, литературной и даже в какой-то мере научной, я обозначил выше то время, которое жил — или мог прожить — здесь. Но, разумеется, главного в себе, уже не раз обнаруженного мною свойства, этого фаустовского стремления к продлению в вечность, поиска, так сказать, le temps suspendu, ничто изменить во мне не могло, да этого и не требовалось. И потому если каждый день рано или поздно клонился к закату, а затем наставала ночь, то все это происходило почти неожиданно — или, напротив, не замечалось совсем. Нам как бы некогда было вовсе следить за такой чепухой, как время, а насыщенность мига событиями, главным из которых было наше собственное присутствие в бытии, позволяла нам на все лады расцвечивать ту воображаемую линию, по которой двигался весь остальной, брошенный нами мир, словно жук по раскручивающейся рулетке, и чью призрачную длину, шаг за шагом, отмечали в гостиной те же гавот и траурный колокольный звон. Я, вопреки ему, был уверен, подобно русскому за границей (известный синдром!), что не вернусь назад никогда. Настя, казалось, разделяла со мной эту смешную условность. У нее, впрочем, были еще и свои дела.
Порой до ужина мы пили с ней на террасе чай. Та, что была более обжитой (на других валялись санки, велосипеды без колес и всякая рухлядь), выходила на север. Потому с утра и вечером тут было солнце, а весь день тень. Терраса была широкой, полукруглой, с увитыми плющом подпорками в виде колонн. Плющ зеленел. Настя ставила легкий плетеный столик и два кресла возле перил, выносила поднос, всегда заранее учитывая все, что понадобится попутно, не забывая даже моих сигарет, — сама она почти не курила, — и после мы, словно в блаженном беспамятстве, засиживались до сумерек, читая, переговариваясь или даже попросту улыбаясь друг дружке, и я, помню, был искренне поражен, когда вдруг узнал, что, в отличие от меня, Настя вовсе не отдыхала, а готовилась к сессии, которую потом с блеском сдала. Она училась в университете, на астрофизике, и это я тоже выяснил как-то почти случайно.
Зато очень подробно, с особой жадностью и аппетитом, я изучил ее библиотеку и их семейный альбом. Первая была похожа на комментарий ко второму: Настин дед, потом отец и мать, потом она сама разнообразили собрание книг каждый новым вкладом, даже отделом, ибо вкусы и интересы у всех были свои. Дед мне казался понятней всех, хотя, впрочем, был некий смак и в книгах Балашова-среднего, отца, как, например, в им купленных толстых томах «Человека и Вселенной», так похожих на Гельмольта, но вдруг отверзавших цветной чертеж не средневековой крепости, а электромоторного вагона, каким он виделся в качестве транспорта будущего инженерам начала века. И что ж: если не считать другой формы корпуса, наша привычная электричка тотчас угадывалась в нем… Конечно, были противоречия, недоразумения, смешные malentendu вроде Гёльдерлина, сданного невпопад в «букинист». Зато была и своя преемственность. Дед Насти был, кроме прочего, географ, и его старый глобус Земли соседствовал с Настиным лунным, американским, присланным ее родителями ей к Рождеству. Набор готовален, обогащаясь, переходил из рук в руки, как в иных семьях шкатулки для бус, и тут тоже были свои раритеты и патриархи, в том числе гигантский штангенциркуль, похожий на железно дорожный герб, с потемневшими медными винтами и разметкой на дюймы, в специальном, из сыромятной колеи чехле. Я был прилежным смотрителем всех этих богатств, что удивляло и веселило Настю, которая сама не слишком ценила какой-нибудь «Атлас комет» прошлого века с цветными рисунками, где буйство воображения художников наделяло эти небесные тела такими хвостами, при виде которых, говорила Настя, «молено лопнуть — от смеха или со стыда». Мне же, напротив, казались слишком уж куцехвостыми современные образчики этого жанра на строгих фотографиях в солидных журналах с ее полки. Законы небесной механики, полагал я, воплощены куда верней — пусть только в виде символов — в этих цветных хвостатых чудовищах, и не так ли тянется за нами пышная, со всеми прикрасами и завитками, вереница дней и ночей из нашей собственной, уже прожитой части судьбы? И конечно, математика, без которой немыслима астрономия, может быть, считает верно свои заоблачные круги, но ее числа неприемлемы там, где речь идет, например, о времени, для которого, как известно, Шпенглер справедливо изобрел специальное хронологическое число… Настя не возражала. Вечер меж тем густел, и она уходила в ванную с голубым огоньком в колонке, куда мне не был при этом возбранен вход, так что я мог, если хотел, любоваться ею под струей душа или в изломах воды, или даже тут же, не отходя от ванны, быстренько оросить «бальзамом любви» (восемнадцатый век, рококо) ее «коралловую пещерку», подставлявшуюся мне в таком случае с непритворным изяществом, впрочем, свойственным ей во всем. И я наконец сам, с опустошенными чреслами, падал в теплую воду и пену, блаженно жмуря глаза, меж тем как Настя шла делать постель все в той же спальне с парусником и телескопом в углу. Обилие подушек, иногда вышитых на малоросский лад, иногда гладких, но всегда белоснежных — это был ее вкус, отчасти необходимый, когда ей на ум, кроме сна, приходила еще какая-нибудь, всегда милая, но непристойная шалость. Что же касается воображения известного рода — явление, к слову сказать, не столь уж частое у девушек, как я имел случай не раз убедиться, — то в этом ей, уж конечно, никак нельзя было отказать. Она и вообще была умница и милашка, я давно это понял и наслаждался истово, как только мог.
Я вернулся в Москву, но уже через месяц опять сбежал в Киев, хотя анализы крови, которые делала мать, были всё хуже и хуже. За ней, впрочем, присматривала тетя Лиза. Я старался не замечать, как она сама постарела, а после смерти отца вовсе утратила свой былой задор, — мне было не до того. Словно герой Газданова, я пережил затяжной душевный обморок и только теперь, как думал, отчасти пришел в себя. Июль был жаркий, неподвижный. Я полюбил Печерск поздней, острой любовью и теперь часами мог бродить — с Настей или один — в его тени меж серых зданий, пока небо исподволь не становилось таким же серым, пухлым и воробьиный дождь вдруг не начинал шуметь в каштанах. Иногда он, впрочем, обрушивался как тропический ливень, превращая улицы в реки, и я сам видел трамвай, застрявший в мутном потоке на одном из холмов, не в силах будучи сладить с водной стихией.
Иногда мы ходили в Лавру. Было весело миновать толпу у главных ворот, стоявшую в очередь за билетом, пройти в конец улицы, до церкви святого Феодосия Печерского, чье житие, я верю, писал сам Нестор, и там свернуть влево, мимо бывших доходных домов, принадлежавших прежде монастырю, в пыльный тихий проулок, который без всяких билетов приводил нас к дальним пещерам, из которых уже не составляло труда добраться по двум галереям в любую другую часть обители. Уже с полвека тут был музей, но как раз в последний год именно дальние пещеры вернули церкви и они ожили слегка зловещей монастырской жизнью, давно тут забытой: начались службы, засновали по двору черноризники, напоминавшие оживших покойников из тех же пещер, которые, впрочем, по народным преданиям, и так были живы и каждую ночь отстаивали литургию в своих подземных церквах. Теперь, как встарь, можно было купить за рубль свечу и спуститься к мощам (при светских властях вход стоил пятнадцать копеек). Настю, однако, ничуть не манила такая возможность: тут у нее был свой интерес, далекий от мощей и богословия. Все дело было в ее квартире, верней, в верхних соседских балконах, нависавших над ее собственными: они мешали ей. Зато здесь, на самом краю обители, еще не успевшей вполне оправиться от разрухи (пока восстановили лишь трапезную и кельи), она облюбовала себе заброшенную, не реставрировавшуюся много лет звонницу, чудо барочной архитектуры, в два уровня и с проломленным куполом наверху. Этот-то купол и прельщал Настю. С приходом сумерек она забиралась наверх с телескопом в рюкзаке за спиной, не обращая внимания на гнилую древнюю лестницу без перил, — а на ней и днем было проще простого свернуть шею, — и после того устраивалась со всеми удобствами на круглой площадке у самых балок, прежде несших колокола, причем, по ее словам, дыры в куполе давали почти семьдесят процентов обзора. Вся звонница изнутри была щедро украшена непристойными надписями и рисунками, но чем выше, тем их становилось меньше, а на верхнем ярусе они отсутствовали совсем, что, говорила Настя смеясь, явно обеспечивает ей тут полную безопасность. Как-то я провел там с ней всю ночь, стараясь не показать страху, пока карабкался по той же лестнице, за что был вознагражден неповторимым зрелищем ночного города, звезд — в телескопе и в Днепре, — веселой болтовней Насти, которую редко видел такой оживленной, и ее детским простодушным бесстыдством, с которым она время от времени приседала на корточки над одной из главных щелей в дощатом, тоже гнилом полу, после чего поток, низвергавшийся вниз, еще долго напоминал о себе падением последних капель, до которых особенно было жадно жившее внизу эхо. Я, впрочем, и сам облегчал нужду тем же способом в ту же щель, разве что не садился на корточки, причем Настя отвлекалась всякий раз от телескопа и с искренним любопытством следила за моей «меткостью», как она говорила. Что ж, я и впрямь не делал промашки. Ночь катилась над нами и то заволакивала дрёмой глаза, то вдруг оживляла хмельным дуновением от Днепра или с бора. К утру, пьяные от речной свежести и аромата трав, мы добрели кое-как до дому, голодные, но не способные от усталости есть, и уснули в единый миг, едва успев напоследок совокупиться.