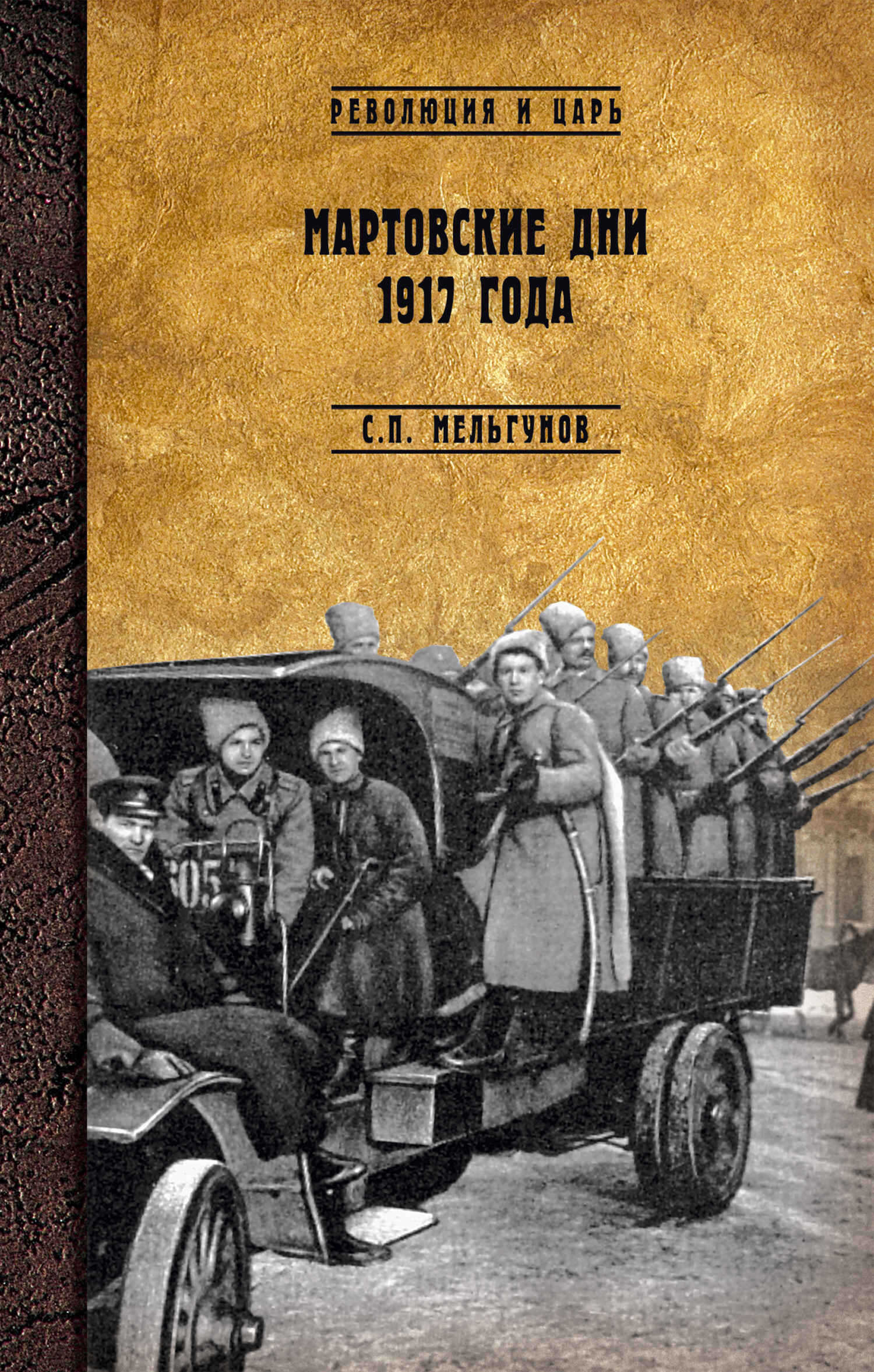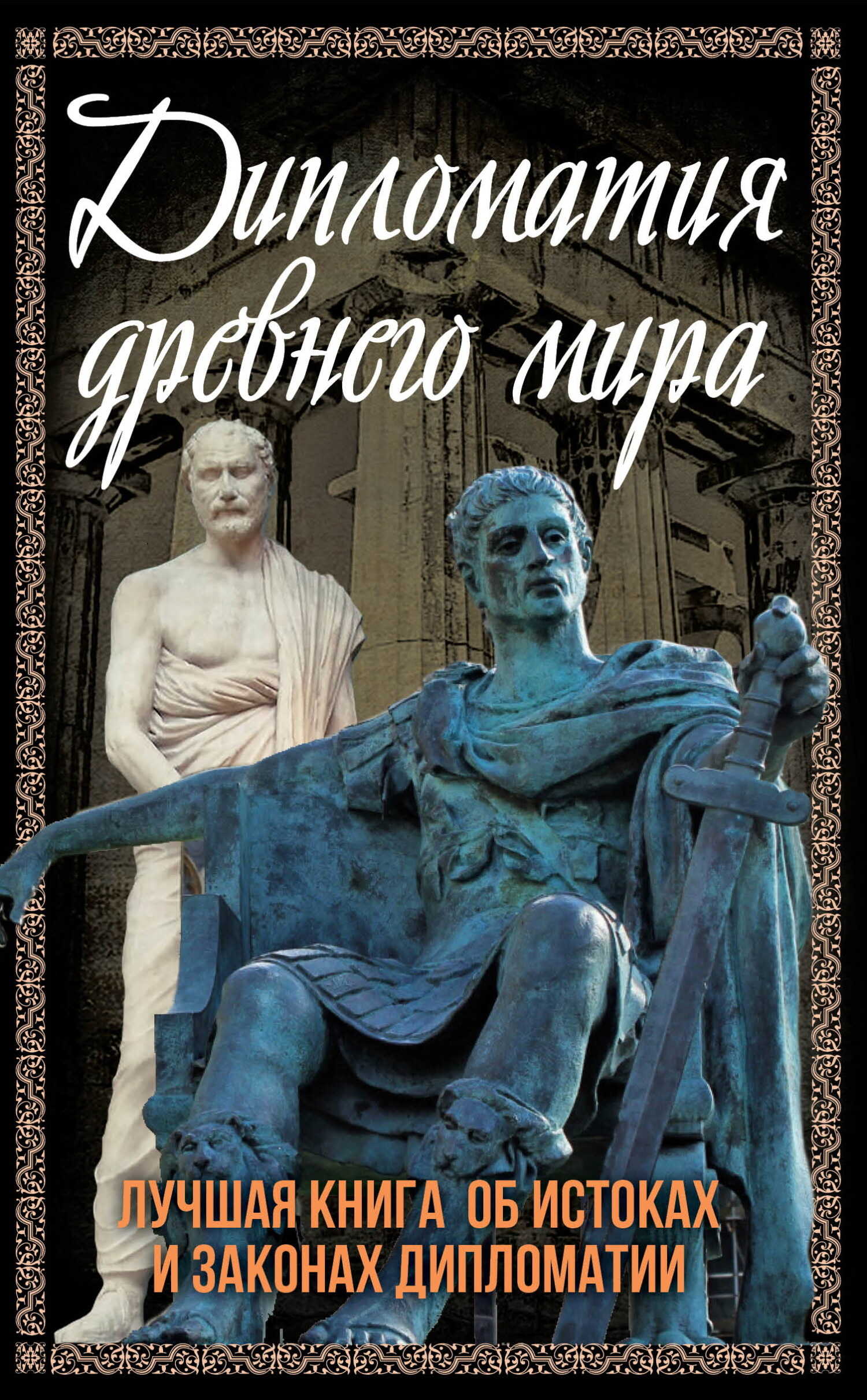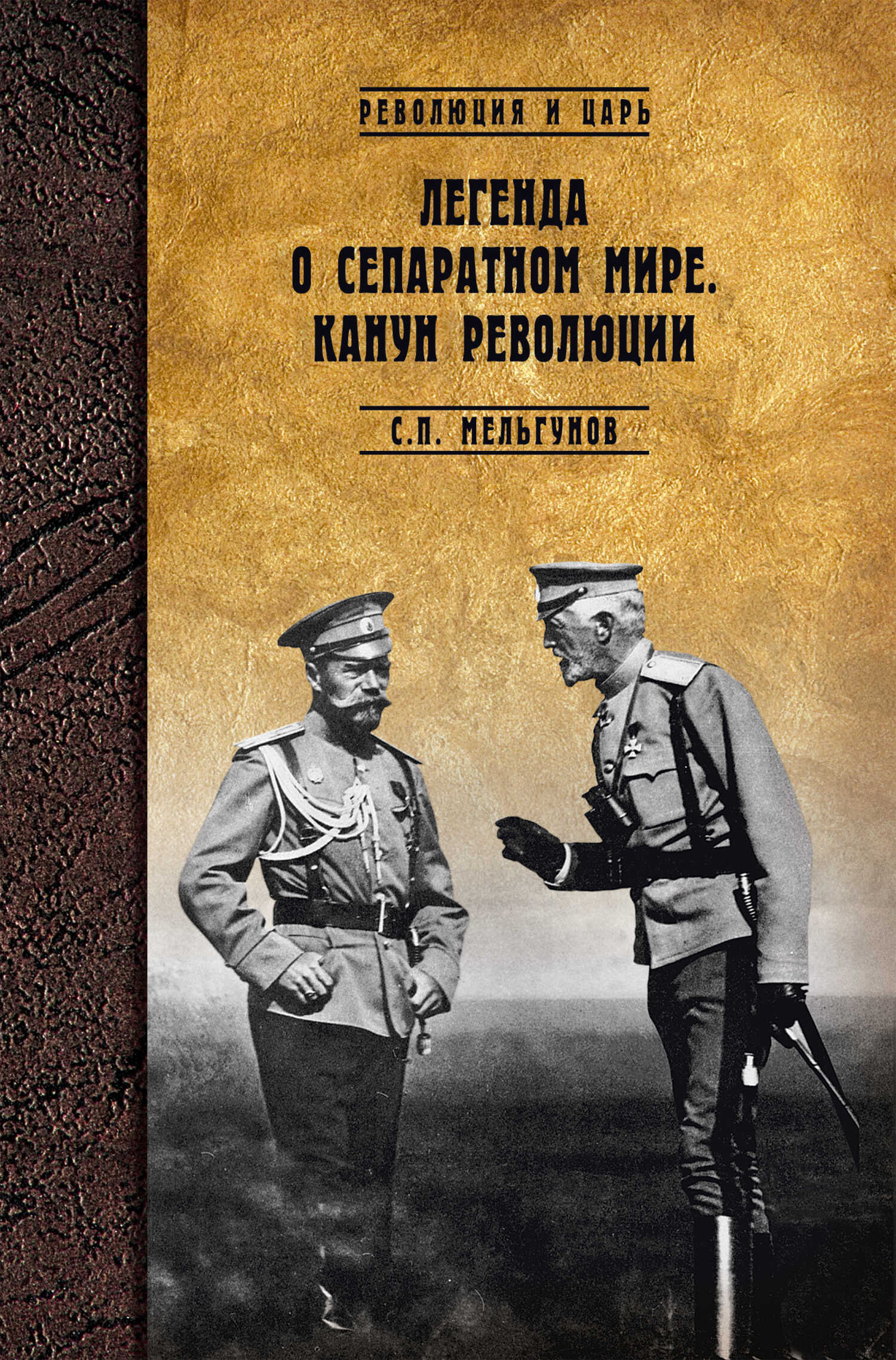Книга На окраине Руси. Мифология и язычество балтов - Теобальд
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Нарбутт (с. 851), также по незнанию литовского языка, принял форму нелитовскую: «Гей, гей, бегейте, пиколе!», т. е. «Прочь, прочь, убегайте!». Затем он прибавляет: «Независимо от звона сабель о сабли, Тилуссоны производили звон и в колокол (Варпас), так как в древности верили, будто звуки металла имели свойство отгонять злых духов от тела. (Обычай звонить по умершим остался и в христианской Литве.) Во время шествия погребального кортежа, мужчины устраивали скачки до вкопанного на известном пространстве столбика, и кто первый достигал его и успевал схватить положенную на нем монету, тот пользовался большою славою среди удальцов».
Это подтверждает сказания Вульфстана; но последние призы (монета) не были так разорительны для наследников, как вульфстановские.
На месте погребения или сожжения тела Тилуссоны и Лигусшы играли на трубах, говаривали речи для утешения родных, прославляли деяния и подвиги покойника и напутствовали его разрешительною молитвою: «Иди, блаженный, из этого бренного мира в страну вечного веселья, где тебя не достигнуть враги». В заключение жрецы уверяли присутствующих, будто видят покойника, едущего по Млечному (по-литовски Птичьему) Пути на борзом коне, с тремя звездами в руке и вступающего в вечную обитель счастья в сопровождении друзей (Нарбутт, с. 352; Юцевич, 289–295).
Малецкий (Maelecius) в сочинении своем «De religione veterum Prussorum», описывая погребальные обряды пруссов и жмудинов, говорит, между прочим:
«Жена должна была 30 дней оплакивать мужа, сидя на его могиле, от восхода до захода солнца; родственники же его на 8, 6, 9 и 40-й день давали обеды, на которые приглашали душу его, молясь на пороге. За столом все безмолвствовали и не употребляли ножей. Служили гостям за столом две женщины. Частичку каждого кушанья бросали под стол и плескали на пол напитки, полагая, что этим питают души умерших. Что из съедаемого падало случайно под стол, того не поднимали, предоставляя душам сиротствующим, не имеющим никого из родных, которые бы могли сотворить им поминки и пригласить их на пир. По окончании трапезы жрец, совершавший жертву, прогонял души вон, произнося: «Гага, леле. душицы! Душицы, ну вэн!», т. е. «Вон».
Малецкий уверяет, будто это литовская форма. Тут нет ни одного литовского слова и целая фраза припоминает приведенную выше мниморусскую – его же: «Га, леле и прочь ти мене умарл?»
Юцевич на с. 292 сильно восстает против этой бессмыслицы и спрашивает: на каком языке существует форма «ну вэт»?
Малецкий заканчивает: «После этого начинался самый разгар пира и полнейшее веселье: мужчины и женщины пили взаимно за здоровье друг друга, полными кубками, обнимались, целовались и в конце напивались до бесчувствия. Таким пьянством заканчивалось каждое религиозное торжество поминовения душ умерших!»
Нарбутт на с. 354 оканчивает описание погребальных обрядов следующим образом:
«После сожжения покойника родственники и друзья его тщательно собирали пепел и остатки неперегоревших костей в урны, которые нередко отличались прекрасною отделкою; туда же бросали те вещицы, которые покойник любил при жизни: кольца, цепочки, браслеты, пряжки, запонки, шпильки от волос, разные металлические украшения, кораллы, янтарь в отделке и самородный, разные монеты, глиняные расписанные шарики и т. п. Некоторые из поименованных здесь металлических предметов были при разрытии впоследствии могильных курганов находимы в целости, а другие в пережженном и слипшемся от действия огня виде. Из этого можно заключить, что одни из этих вещей сжигались вместе с телом, а другие опускались в урны при погребении праха.
Не забывали также хоронить вместе с покойником когти хищных зверей и птиц в убеждении, что они будут нужны покойнику, чтобы взобраться на гору вечного блаженства».
В статье «Загробная жизнь» мы видели уже, что ради этой причины многие старики переставали обрезать себе ногти, без которых на том свете не могла обойтись ни одна душа, и что многие души, не сжигавшие обрезков ногтей своих при жизни, должны были бродить по смерти по кучам мусора и собирать эти обрезки до последнего кусочка.
«На похоронах, – продолжает Нарбутт на с. 358, – главную роль играли плакальщицы, которые, по народному убеждению, были необходимы для упокоения тени. Обычай этот не искоренился в простом народе до сих пор, несмотря ни на политические, ни на религиозные перевороты. Плакальщицы – это молодые женщины с здоровою сильною грудью, которые от момента смерти данного лица до опущения его в могилу не перестают издавать самые резкие, самые пронзительные крики и завывания. Ежели умерший не имел родной и притом способной плакальщицы, то приглашалась соседка. Удивительно, как эти крикуньи умеют выражать самую высшую степень отчаяния и горя; но еще удивительнее то, что лица их мгновенно проясняются и развеселяются, как только они перестают голосить и сходять со сцены, как актрисы, нисколько не проникнутые теми чувствами, которые только что пред тем выражали. На похоронах бедных людей такого плача не бывает; если же над бедняком по неимению родных некому поплакать, то какая-нибудь из заурядных плакальщиц по чувству набожности всегда берется покричать над ним немножко».
Наплаканные на похоронах слезы тщательно собирались в глиняные или стеклянные сосуды (слезницы) и ставились в могилах в ногах умершего.
Литвины плакальщиц называли верксме, а слезниц – ашшаруве (Assaruwe).
В Вильне, как полагают, урны с пеплом князей литовских погребены на Замковой горе, со стороны восхода солнца, а если урны были сделаны из прочного материала, то, вероятно, они должны находиться глубоко в земле доныне.