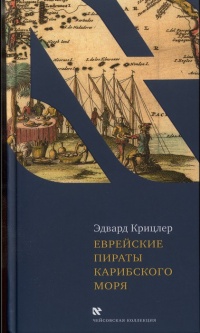Книга Золотая жатва. О том, что происходило вокруг истребления евреев - Ян Гросс
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Уже в августе 1943 г. Роман Кнолль, глава Комиссии по иностранным делам при представительстве правительства, сообщал в рапорте, отправленном в Лондон (как сообщает Дариуш Либёнка), что « возвращение евреев “на их рабочие места и в их мастерские совершенно исключено, даже в значительно меньшем их количестве”. Причина — то, что нееврейское население заняло прежнее место евреев в социальной структуре. Эта перемена, по мнению Кнолля, “носит необратимый характер”». Он предупреждал, что «массовое возвращение евреев было бы воспринято жителями не как восстановление, а как вторжение, от которого они защищались бы, в том числе даже физическим путем». Короче говоря, как утверждал Кнолль в другом, более раннем, документе, «возврат к status quo ante совершенно невозможен»[155].
Другой крупный политик лондонского лагеря, Ежи Браун, который по поручению правительства ликвидировал аппарат Делегатуры (представительства), за что был прозван «последним делегатом», представил в июле 1945 г. очень схожую оценку:
в сельской местности и в местечках сегодня нет места для еврея. В течение последних шести лет в Польше сложилось (наконец-то!) польское положение вещей, ранее не существовавшее, и в его сферу целиком отошла провинциальная торговля, посредничество, поставки, кустарное производство и всякое ремесло. Эти молодые крестьянские сыновья и бывший городской пролетариат, которым раньше пользовался еврей, — озлобленный элемент, упрямый, жадный, почти что лишенный всяких крупиц морали в торговле, превосходящий евреев храбростью, инициативой и подвижностью. Эти массы на этих территориях не отступят. Нет такой силы, которая бы их оттеснила[156].
Через десять лет после войны чтение воспоминаний еще одного видного деятеля лондонского подполья, Стефана Корбоньского, вызвало бурную реакцию Ярослава Ивашкевича. В дневнике от 4 апреля 1956 г. он отмечает: «Исправляю неточности и пишу на полях: ужасающее чтение. Потрясает недальновидность и глупость этого субъекта. Ни одной широкой мысли, ни одной политической идеи»[157]. А тремя днями позже он записывает короткий разговор с Марией Домбровской по поводу той же книги. «Я: Знаешь, меня поражает уровень книги Корбоньского. Она: Так и должно быть. От таких людей нельзя ждать, чтобы они находились на уровне — только на вертикали. Я: Что ты имеешь в виду? Она: Уровень — это мы. Хотя у некоторых из нас нет вертикали»[158].
Для нас острое словцо Домбровской должно служить напоминанием, что действительность времен оккупации нельзя понять, не учитывая этическую сторону человеческого поведения. Многие люди, оставившие свидетельства о тех временах, хорошо это понимали — например, уже цитировавшийся Ян Карский. Другим чрезвычайно проницательным очевидцем того времени был Казимеж Выка. И о том, что отмечают Кнолль и Браун, он писал совсем в ином тоне:
Центральным психо-экономическим фактом в годы оккупации остается несомненное исчезновение из сферы торговли и посредничества миллионной массы евреев [и] инертное и автоматическое стремление польской стихии занять место, оставленное евреями. Разве формы, в которых произошло это вытеснение, и способ, каким наше общество желало и желает этим воспользоваться, были моральны и приемлемы? Хотя бы я отвечал только за себя и не нашел никого, кто бы меня поддержал, — буду повторять: нет, стократно нет. Эти формы и эти надежды были постыдными, аморальными и низкими. Кратко говоря, экономическое и моральное отношение среднего поляка к трагедии евреев выглядело так: немцы, убивая евреев, совершили преступление. Мы бы так не сделали. За это преступление немцы понесут кару, немцы замарали свою совесть, но мы-то — мы-то получили выгоду и будем получать ее и дальше, не бередя совесть и не пачкая руки в крови. Трудно найти более мерзкий пример морали, чем такие представления в нашем обществе.
Способы, которыми немцы ликвидировали евреев, ложатся на их совесть. Но реакция на эти формы ложится на нашу совесть [выделено автором. — Я.Г.] Золотой зуб, вырванный у трупа, всегда будет кровоточить, даже если никто уже не будет помнить его происхождение[159].
Подводя итог, следует помнить, что в конечном счете еврейская собственность, которой завладело во время оккупации население польских городов и деревень, осталась в его руках, поскольку евреи во всей Европе, в том числе и в Польше, были истреблены немцами. Часть коренного населения активно включилась в процесс грабежа; большинство же смотрело на происходящее с удовлетворением. Но хотя, в первую очередь, таким образом был использован случай, предоставленный исторической конъюнктурой (т. е. нацистами), следует признать: когда случай подвернулся, им воспользовались без особого сопротивления.
Анализируя сцены преступления в Едвабне, польский литературовед Пшемыслав Чаплиньский делает поразительное открытие, как он пишет:
невольного, устрашающе простого и выразительного сценария, которого немцы наверняка не навязывали. Вытащенные из домов, проведенные по улицам местечка, подвергшиеся поношению, забросанные камнями, вынужденные в наказание перетаскивать памятник [Ленина], а затем отведенные в овины, они невольно прошли организованный поляками Крестный путь. Взрослое население Едвабне, благодаря автоматичности поведения в процессии, а также в поисках образца для «последнего пути», воспроизвело Христовы муки. Иронией кажется то, что евреи, преследование которых всегда оправдывалось убийством Христа в незапамятные времена, на этот раз выступили как раз в роли Спасителя, поляки же исполнили все роли, обычно отводившиеся еврейским персонажам. В тот день они были иудами, предающими на муки, стражниками, возложившими на плечи Христа крест (читай: памятник Ленина), в конце концов палачами, которые отвели Иисуса на место казни. [Евреев в Едвабне заставили, помимо всего прочего, разбить памятник Ленину, поставленный в местечке советской властью, и «похоронить» каменные обломки с церемонией, сопровождавшейся глумлением окружавшей их толпы и кончившейся тем, что евреев, донесших памятник до места погребения, убили и похоронили в той же могиле. — Я.Г.] Благодаря повторению сценария Крестного Пути жители Едвабне, в силу антисемитской интерпретации христианства, не только знали, как им поступать, но и были свято (!) уверены, что их поведение легитимно[160].