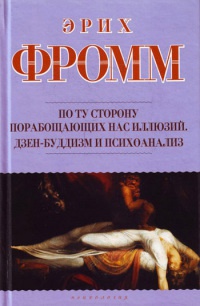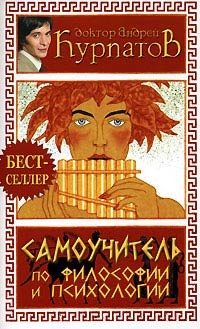Книга Время утопии. Проблематические основания и контексты философии Эрнста Блоха - Иван Болдырев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
«Открытость» диалектики, согласно позднему Блоху, достигается через особое понимание ее материалистической версии – суть явлений в их материальности, нельзя вменять им некую внешнюю логику. Именно это обстоятельство делает материалистическую диалектику более «реалистической», связывает ее со множественностью, прерывностью, незавершенностью[280]. Для утопической философии неприемлемы единообразие и логическая прозрачность Абсолюта, как неадекватны и попытки растворить природное бытие в логической стихии (и в этом пункте союзником Блоха становится Шеллинг).
Действительность – это номинализм, а не понятийный реализм, однако такой номинализм, все моменты и детали которого собраны вместе единством объективно-реальной интенции, а в основании ее лежит утопическое единство цели (SO, 508, ср.: 398).
Логика без инстинкта, без влечений и особого аффективного напряжения, без антропологии остается для Блоха гербарием засохших слов или тавтологий.
Подлинно диалектический мотив – это потребность (нужда), и лишь она, как ненасытное, не осуществленное через мир… чувство, представляет собой постоянно возникающее, ускользающее и взрывное противоречие (SO, 137f.).
Лишь волевое вмешательство субъекта способно придать объективным противоречиям исторически прогрессивный характер, ту направленность в будущее, которая и может считаться подлинным могуществом диалектики – могуществом преодолеть простую отрицательность и подчинить ее прогрессивной негативности. Субъективные противоречия при этом способствуют постижению объективных[281].
Блох, в отличие от Маркса, никогда сознательно не руководствовался диалектической методологией в строгом смысле слова: у Блоха мы не найдем методологически продуманной системной диалектической конструкции, описания и обоснования правомерности и достижимости того или иного этапа диалектического развития и/или мыслительного движения. Более того, многие его высказывания наводят на мысль о том, что идея диалектического опосредования была ему чужда, что он, скорее, склонялся к мистическому решению проблемы финальной идентичности как окончания исторического процесса, несмотря на постоянные отсылки к диалектике и разумности[282]. И здесь он остался верен общей направленности гегельянского марксизма, сформулированной Лукачем в «Истории и классовом сознании».
В 1950-е годы Блох вполне отдал дань гегелевско-марксистской философии и даже совершил с ее помощью несколько небольших гражданских подвигов, прочтя в 1956 г., после вторжения советских войск в Венгрию, доклад с рискованным для того времени названием «Гегель и насилие системы» или тогда же вознамерившись критиковать Энгельсово разделение «прогрессивного» метода и «мистифицированной» системы у Гегеля.
Призывая заменить статические метафизические конструкции абсолюта динамической концепцией надежды (в том числе как особого аффекта), Блох фактически воспроизводит антропологический характер собственного философского мышления[283]. В явном виде это происходит в трактовке диалектики. Вряд ли стоит называть позднего Блоха субъективистом, поскольку он не признавал субъективистских («идеалистических», «иррационалистических») теорий, настаивая на том, что та модель сознания, тот образ человека, который он пытается описать и обосновать, связан с объективной действительностью, с ее тенденциями, с исторической и природной динамикой, которая, однако, без субъекта лишилась бы своей позитивной, созидательной направленности.
Блох подчеркивает важность снятия гегелевским абсолютным духом своих отчужденных форм как смысла исторического развития. Избавление индивида (социального субъекта) от косных предметных образований, от несвободы, от давления устаревших социальных институтов и т. д. Блох мыслил по аналогии с движением абсолютного духа, обретающего в конце истории подлинную самость. Методически сконструированное обретение тотальности в гегелевской философии заменяется антропологией, главной чертой которой становится томление по этой тотальности, принимающее зыбкие, подвижные дискурсивные формы. Любую философскую систему Блох обличает в том, что она имеет статичную, заранее заданную основу, которой в мире философии – принципиально неопределенном и зыбком – быть не должно. Этот динамизм, сближающий гегелевскую диалектику и философию Блоха, почувствовал даже Хайдеггер, никогда на Блоха не ссылавшийся, охарактеризовав движение гегелевской «Феноменологии…» как движение еще не истинного знания и еще не нашедшего себя субъекта[284].
Итак, неприятие позитивизма и механистического материализма, равно как и крайнего субъективизма, иррационализма, противопоставление им диалектики – все эти черты философского мировоззрения Блоха были бы невозможны без гегелевского наследия. Для Блоха статичность мифологического мышления, которое пытается «вернуться к истокам», ничуть не лучше статики вульгарного материализма. «Революционный гнозис» невозможен без революционной диалектики, которая оживляет идеи, дает им шанс реализовать себя в истории, то есть дает надежду.
Негативность
У путешествия Фауста есть существенная черта, сближающая Гёте и Гегеля: Фауст постоянно подвергает диалектическому отрицанию окружающий его мир. Но и в мире всегда «присутствует некий объективный Мефистофель, объективное отрицание» (TE, 75). И Лукач, и Блох подчеркивают позитивный характер отрицательной природы Мефистофеля, его созидательную роль. Мефистофель сравнивается со злом как двигателем истории в гегелевской концепции «хитрости разума». Именно здесь стоит вспомнить о его знаменитой самохарактеристике:
Блох прав, Мефистофель действительно имманентен миру, он представляет собой не только момент душевно-исторического развития Фауста[285], как полагает Лукач, но и момент исторического развития, часть божественного мироустройства. Он спокойно приходит на прием к Господу и просит позволения совратить Фауста с пути истинного. Не будь Мефистофель причастен миру, Бог не сказал бы ему: «Из духов отрицанья ты всех мене / Бывал мне в тягость, плут и весельчак» (18). Мысли Мефистофеля крамольны, они не вписываются в гармонию сфер, что, впрочем, не мешает ему оставаться частью этой гармонии[286].
Позитивный смысл образа Мефистофеля давно признан литературоведами. Часто он оказывается «умнее», хитрее Фауста, изрекает общеизвестные истины, не теряет трезвости взгляда и т. д. В устах самого Бога Мефистофель даже становится созидателем[287]. Он часто оказывается прав в спорах с Фаустом, что отмечал еще Шиллер[288].
С другой стороны, Мефистофель – это дух, «всегда привыкший отрицать», что вполне соответствует гегелевской мысли. Но этому отрицанию присущи особые черты. Мефистофель говорит:
Здесь перед нами уже не диалектическая трактовка дьявола, а скорее, рассуждение в духе немецкой мистики (продолжателями этой традиции в эпоху Гёте были Ф. Баадер и Шеллинг) и манихейского дуализма добра и зла. На шеллингианские корни некоторых представлений Гёте указывает и Блох. Он пишет, что Гёте под влиянием Шеллинга называет основными природными силами полярность и восхождение (Steigerung), придерживаясь «старых» пантеистических взглядов, связанных с совпадением противоположностей в мировой гармонии. То есть Блох признает, что ненасытный порыв Фауста (если его интерпретировать в гегелевском духе) и подобного рода спинозистскую идеологию гармонии совместить трудно. Конечно, философские взгляды Гёте (равно как и Шеллинга) нельзя сводить к спинозизму/натуралистическому пантеизму. Блох описывает лишь одну из важных тенденций их мысли.