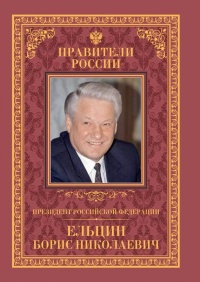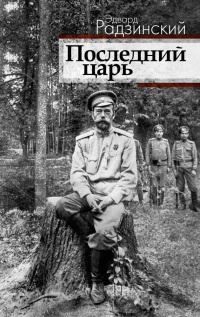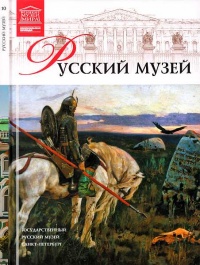Книга Первый день – последний день творенья (сборник) - Анатолий Приставкин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
И когда Лида, чуть склонив набок головку, выводит эти слова, мне почему-то хочется плакать. Отчего-то жалко ее, себя, ленинградцев и всех людей на свете. Хотя никакого Ленинграда, никаких садов ни Лида, ни я никогда не видели.
О самой Лиде, о том, что она в жизни пережила, рассказывалось по детдому шепотком, но все, конечно, знали, что в городе Донецке, в ту пору Сталино, где жила ее семья, на площади, прямо на ее глазах, повесили родителей как партизан-подпольщиков, а девочка тогда сразу стала белой. Потому и стригли наголо, чтобы не так было заметно.
Но первая подростковая любовь на то и первая, чтобы остаться без ответа. От той ошалелой весны, которая пришла после бесконечно долгой военной зимы, многослойная, многоголосая, празднично пестрая, осталась лишь одна пронзительная нотка – Лида. Каждый раз, танцуя танго с Клавдией Илларионовной, она заглядывает через плечо воспитательницы в мою сторону блестящим серым глазом, будто хочет о чем-то спросить. Может, она раньше меня догадалась о моих чувствах и ждала признания? Да просто ждала каких-то слов, ну, скажем, таких: давай дружить. Но и для этого, поверьте, нужна смелость.
Мы знали все про чужую любовь, мы хором орали похабные песни, но это никак не смешалось с первыми признаками робости, с пробивающимися изнутри неясными, невыраженными, едва различимыми нотками чувств. В общем, мы разъехались, даже не простившись. Осталась лишь на память о Лиде ее песня. Вот ее слова: «Все что ты мне, прощаясь, шептала, стало сердцу навеки родным, только белая ночь трепетала над Литейным мостом кружевным…»
Попав уже в зрелом возрасте в легендарный город и увидев и пережив белые ночи и те самые кружевные мосты над Невой, я вдруг понял, что Лида и ее песенка вовсе не отсюда. Может, кто-то ее поет и здесь, и она прекрасно прозвучит, но это уже не наша песенка. А наша звучала и будет всегда звучать в крошечном горном городке на Кавказе, где девочка в белом ситцевым платьице, тоненькая, как свечечка перед алтарем, своим серебряным голоском заставляла меня тихо рыдать, спрятавшись в темном углу клуба.
Первая такая весна. Первая любовь. Первая дружба.
Два дружка караулили меня на задворках: Витька Иоффе, о маме которого я упоминал, и Христофор, он же Христи, мальчик из армянской семьи. О нем мало что осталось в памяти и душе. Разве что фотография, где мы стоим вдвоем, такая крошечная-крошечная, размером с ноготок, сейчас захочешь, такой не сделают. Но еще какие-то мне недоступные сексуальные упражнения, которые он изобразил, поскольку южная кровь и раннее созревание. Да еще вместо уроков особый поход к винному заводику, где на задах надо раскопать в виноградном отжиме ямку и, уткнувшись лицом, подышать над нею, и тогда весь мир придет в неистовое кружение и весело преобразится. И можно хохотать до упада, указывая пальцем друг на друга и видя, какие мы окосевшие.
А вот с Витей Иоффе по-другому и душевней. Мы вообще вдруг поняли, что мы не просто дружки, а друзья до гроба, и эту обстановку сердечности создавала его мама Роза. Была она росточком чуть больше сына, светлоглазая, круглолицая, смешливая. Я уже упоминал, что работала она бухгалтером на теплостанции, и, так как вода в Кизляре в те поры продавалась на деньги из деревянных будок, где обычно сидели древние старухи, мама Роза каждый вечер приносила с работы для подсчета выручку за воду, целую картонную коробку мелочи, среди которой часто попадались старинные монеты. Древний, даже очень древний Восток просвечивал сквозь окислившийся металл, но мы, наполненные той весенней новью, стариной не увлекались.
А еще мама Роза придумала брать нас на теплостанцию, и там, в бетонном отстойнике с теплой водой, мы с Витькой могли купаться даже в холодное время года. Ко дню рождения мы зарыли в огороде глинобитного домика, который они снимали, банку с вишневым соком, и на праздник вскрыли и пили за Витькины четырнадцать лет забродивший сок, и это было взаправду весело. Потом мы ходили смотреть, залезая на высокий забор открытого кинотеатра, новый фильм «Пятнадцатилетний капитан». Как ни говори, а он был нам почти ровня. Да и все мы в эти годы бредили морем, а Володька Рушкевич даже попытался устроиться в плавание. Но хорошо помню, что нас с того забора согнали, и мы так и не увидели, чем закончилось кино. Но вот злодей Нигоро, проникший на корабль и подложивший топор под корабельный компас, был включен мной в список злодеев, которым не может быть пощады… Четыре я стрелы пущу, и четверым я отомщу…
Еще мы мечтали попасть на выступление силача Айвазова, который изображался усатым богатырем на афишах, расклеенных по всему городу, где он поднимал рояль, а на рояле сидели и стояли десять человек артистов, и все при этом улыбались.
Попасть на Айвазова мы по безденежью тоже не смогли, зато придумали с Витькой такую игру, что если бы взять силача Айвазова и направить против пиратов и Нигоро, которых он одним мизинцем скинул бы в море, то получилось бы классная концовка в кино, которого мы не досмотрели. А потом мы по очереди читали Тома Сойера, его на два дня мама Роза выпросила у подруги, и Витька предложил написать продолжение книги и тут же набросал на листочке план следующих глав. Но потом он писать расхотел, а вместо этого завел дневник и стал записывать, как мы с ним проводим время. И тогда я тоже завел дневник и стал записывать, как мы с ним проводим время. Потом мы сравнивали записи, и выходило, что мы по-разному, хоть и вместе, проводим время. Он написал, что на «отлично» сдал контрольную по русскому, в то время как я играл на уроке в морской бой, а я написал, что Витька валял дурака и контрольную написал плохо, а все оттого, что мы не попали на Айвазова.
Мама Роза, которая сшила мне блокнотик для дневника из старой бухгалтерской книги, ознакомилась с нашими дневниками и сказала, что из моего дневника она будет узнавать о сыне, а из Витькиного – обо мне. А в целом мы, по ее словам, большие фантазеры, потому что наш Айвазов – алкоголик и развратник и его с гастролями не пускают выступать даже в Сунжу, не только в Грозный. Дневник тот у меня сохранился, и с временными перерывами я зачем-то вел его еще много лет. Правда, вел, но не читал.
Самое поразительное, что от того времени мало чего вещественного осталось. Разве что настоящая финка для защиты, смастеренная таким образом, что ручка у нее была приспособлена для очень маленькой детской руки. И вот сохранился дневник, вписанный в крошечную тетрадку, а вместе с ним сохранился рисунок Витьки с дарственной надписью мне на память: Ленин, стоящий на трибуне. Ленин правой рукой на фоне красного флага указывает народам – а значит, и нам с Витькой – дорогу в счастливое будущее.
А дальше был мой отъезд в Москву, когда пришел с фронта отец. Я все время забегаю вперед, но про отца следует рассказать. Дело в том, что моя жизнь с появлением отца круто изменилась. До этого я шлялся, промышлял по рынкам, попрошайничал, крал, и даже дружба с Христиком и Витькой не изменяла главного: я был ничейный, бросовый, уличный, в то время как у Витьки рядом всегда была мама Роза. И вдруг я вырос в собственных глазах. У меня появился отец, фронтовик, защита на всю жизнь. Я, как маленькая собачка, торопился поспеть за ним: и когда он на рынке пробовал на вкус вино, и когда купался в Тереке, и когда ушел ночевать к воспитательнице Ольге Артемовне.