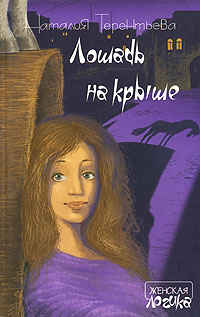Книга Я уже не боюсь - Егор Зарубов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Китаец начинает стучать по своим «барабанам»…
Лучше бы не стучал.
Дело не в том, что пионерский барабан и куча мусора звучат фигово. Вернее, не только в этом. Главная проблема – Китаец не может барабанить. Не потому, что не хватает навыков и так далее. Просто не может, и все. Я это понимаю сразу, хоть и надеюсь, что каким-то образом все же ошибаюсь.
Мы пробуем сыграть еще «Рожденный в СССР» «ДДТ» и Грóбовскую «Все идет по плану», и становится ясно: ошибки нет. Что это значит? Ничего. По крайней мере я пока не понимаю что. Но обмениваюсь с Царьковым взглядами, и до меня доходит, что он тоже понимает.
Это странно – понимать, что думает Царьков…
Внутренний голос в стотысячный раз за день ворчит: «Странно заниматься такой фигней, когда Юля умерла. И папа умер. И…»
– Пошел ты, – бурчу я. В последнее время я очень часто говорю сам с собой. Большую часть времени мне и говорить-то больше не с кем. Разве только с Юлей. С ней я часто говорю во сне…
– Чего? – говорит Китаец, пощелкивая друг о друга барабанными палочками.
– Говорю, можем попробовать «Нирвану» слабать, – отвечаю я и вздрагиваю, когда в стальную дверь гаража гулко стучат.
Царьков открывает дверь и впускает долговязого чувака с длинными волосами, шрамом на лбу и татухами, густо покрывающими руки ниже локтей. Как и Китаец, он в косухе и берцах, несмотря на жару. Правая штанина джинсов выше колена заляпана зеленой и синей краской. Мне почему-то сразу кажется, что он нас старше.
– Здорова, роллинг-стоуны, – ухмыляется он и хлопает по ладони Царькову. – Как оно ничего?
Он кивает Китайцу, потом замечает меня и протягивает руку. Кончики пальцев и ногти тоже испачканы краской.
– Никита, – говорит чувак.
Я тоже представляюсь, а сам удивляюсь: почему-то я был уверен, что у такого штриха обязательно должна быть кликуха. Типа Бэтмен какой-нибудь или Дракон…
У Никиты в руке чехол – твердый, как у профессиональных музыкантов. Он вытаскивает из него электрогитару с блестящей красной декой, надписью «Ibanez» и золотистыми ручками настроек. Подключает ее к комбику Царькова, проводит медиатором по струнам…
А потом начинается волшебство.
Такую игру на гитаре я прежде слышал только в записи или видел по телику, если крутили какой-нибудь крутой концерт. Когда звуки будто бегают сверху вниз и обратно вместе с пальцами, мечущимися по грифу, как напуганный паук. Царьков не отстает: бас пульсирует, рикошетит от бетонных стен и заставляет сотрясаться пыльный воздух.
Я по мере сил подыгрываю, хотя мне до них как до неба. А бестолковый стук Китайца и вовсе быстро затихает.
Мы таки пробуем сыграть кобейновскую «Smells Like Teen Spirit», и Никита даже что-то завывает. Наверное, в соседнем гараже все это звучит так, будто Китаец тестирует движок своей «Чезеты». Особенно из-за его «игры» на ударных. Но получается прикольно. Я даже улыбаюсь. Немного.
Выходим на перекур. Никита с кем-то трындит по мобилке, прижимая ее к уху локтем, хотя руки не заняты. В его зубах тлеет сигарета, от дыма глаза слезятся; ветер бросает на горящий окурок прядь волос, несколько из них вспыхивают, как усы Марфы, когда та сует нос слишком близко к зажженной конфорке.
– Ну, короче, нормально все, – говорит Никита, бросив телефон в карман джинсов и ухмыльнувшись Царькову. – Те, с кем я играл в прошлый раз, вообще звучали как самосвал со щебенкой. Только Толик там на басу нормально валил… – Поворачивается ко мне и добавляет: – Ты круто ритм лабаешь, надо только весло тебе нормальное намутить.
Приятно слышать подобное от этого чувака. Он кажется тем, кто знает, что говорит. Кажется взрослым.
Мимо нас с ревом проползает когда-то белая, а сейчас почти черная от грязи «Газель» и растворяется в облаке пыли среди бетонных коробок.
– Предлагаю разбежаться на пожрать, а вечером затусить, – говорит Китаец.
– Поддерживаю, – кивает Царьков.
Затусить с Царьковым… Да уж, мир точно сдвинулся.
Идем с Китайцем вдоль трассы домой. Царьков и Никита увалили на тролле на свои Терема. Над дорогой покачиваются рекламные растяжки с грязными, закопченными баннерами «Киев – город цветов».
Китаец швыряет петарду в ливнесток без решетки. Хлопок – и из дыры поднимается дымок.
– Круто. Круто получилось. Ептыть, реально как «Нирвана»! Блин, зашарашить бы еще завтра… А мне в «Караван» этот гребаный тащиться.
Я сочувствую Китайцу. Мне государство назначило какую-то подачку по случаю смерти отца – почти такую же, как зарплата в конторе у Тараса. Так что я могу не работать. Правда, от этого не лучше. Больше времени на мысли о том, о чем думать не хочется…
– А когда это «Турист» закрыли? – спрашиваю я, желая поддержать разговор и глядя на какие-то иероглифы над дверью старого магазина туристического и спортивного барахла.
– Недели две уже как. Открыли южнокорейский ресторан.
– Именно южнокорейский?
– Ага. Там вывеска на южнокорейском.
– Не бывает южнокорейского и северокорейского. Просто корейский.
– Хрен там. Мне брат говорил. Он шарит, – говорит Китаец, зажигая спичку и швыряя ее в прорезь торчащего у остановки почтового ящика.
Я качаю головой. Китаец – даун.
Забегаю в «ЭКО» за кормом для Марфы и тащусь домой: лифт сломался, и приходится идти пешком. Надписи на стенах, знакомые и привычные, после смерти Юли кажутся чем-то чужеродным, враждебным, как язык инопланетян, захвативших Землю.
На пятом обгоняю Тарзана – пыхтящего жирдоса в майке-сеточке, который иногда набухивается и орет на балконе, ударяя себя в грудь кулаками. Он художник. Когда-то рисовал афиши для «Загреба», пока тот не закрылся. Может, он один из инопланетян. Судя по роже его жены, это вполне возможно. Кстати, он крестный Жмена.
А может, все вокруг пришельцы, как в фильме «Похитители тел»… По крайней мере все, кто старше двадцати. От них никакого толку. Да и от тех, кто младше, по большому счету тоже.
Дома мама и Грегори Пек. Он у нас теперь часто тусуется. Помогает деньгами, как и обещал. Вообще, он вроде нормальный мужик, хотя после той стычки мы ни разу не общались – только обмениваемся безразличными взглядами. С мамой мы иногда говорим, но так, по мелочам. Я чувствую, что она там же, где и я. На дне океана, который у каждого свой. И там, под давящей толщей воды, в темноте, ты с трудом переставляешь ноги в полном одиночестве. Только так.
В моей комнате небольшие изменения. Появились два плаката. Специально ездил за ними на Петровку. На одной стене, над кроватью, черно-белый Высоцкий. Напротив, рядом со шкафом, глядя Высоцкому в глаза, – цветной Курт Кобейн. Точно такие же – и так же напротив друг друга – висели у Юли в комнате. Высоцкого вроде повесила когда-то сестра, любительница походов и песен у костра, а Курта уже Юля добавила. Я, когда на них смотрел, всегда думал, о чем глубокой ночью могут говорить Высоцкий и Кобейн.