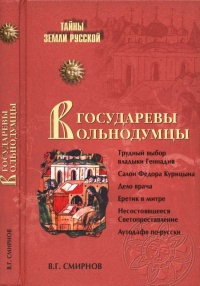Книга Жизнь русского обывателя. От дворца до острога - Леонид Беловинский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Но вот толстая Марфа с веселым видом поставила на стол миску щей и принесла горшок с кашею. Мы сели за стол и не положили охулки на руку: все было изготовлено вкусно: щи с завитками, каша с рублеными яйцами и мозгами – словом, объеденье. За этими блюдами последовали: огромный разварной лещ с приправою из разных кореньев и хреном, сосиски с крупным зеленым горохом, часть необыкновенно нежной и сочной жареной телятины с огурцами и, наконец, круглый решетчатый с вареньем пирог вместо десерта. После каждого блюда Семен Тихонович подливал нам то мадеры, то пива, а после жаркого раскупорил сам бутылку прекрасной шипучей смородиновки собственного изделия. Служившие за столом общипанные мальчики не были им забыты: от всякого кушанья откладывал он бесенятам своим, как называл он их, обильные подачки, и даже кот на свой пай получил порядочную порцию телятины…
Не успели отобедать, как толстая Марфа явилась с несколькими бутылками разных наливок… «Мы ведь не французы, – сказал Семен Тихонович, осматривая бутылки, – чертова напитка – кофию не пьем, а вот милости просим отведать наших домашних наливочек, кому какая по вкусу придется…» (66; II, 187–189).
Частный пристав
Вот и видно, что у ревизии казенных счетов недурно жилось. Тут, как жирком подзаплывешь, поневоле добродушным станешь.
Но подлинной чиновничьей клоакой в дореформенный период были суд и полиция. Недаром поэт-славянофил А. С. Хомяков, обращаясь к горячо любимой им России, писал, что она «в судах черна неправдой черной и всякой мерзости полна». Дело доходило до анекдотов. Конечно, во многом эта мерзость взяточничества и судейской кривизны была вынужденной: на свое жалованье ни городничий, ни уездный исправник, избиравшийся из отставных младших офицеров, не выслуживших пенсии, прожить не могли. Тем более, не могли существовать заседатели нижнего земского суда, без конца мотавшиеся по уезду на следствия. Был выработан ряд приемов для получения взяток. Например, при скоропостижной смерти выехавшие на следствие исправник, становой пристав, заседатель, полицейский врач заявляли о необходимости вскрытия. Между тем в сознании простонародья «потрошить» мертвеца значило искажать его божественный образ и подобие, издеваться над дорогим покойником. Естественно, вслед за просьбой не трогать тело следовала взятка. Особенно же лакомым кусом было «мертвое тело» – труп постороннего человека, умершего естественной смертью, убитого или покончившего с собой и случайно обнаруженного. По давней традиции, ответственность за преступление несли владельцы земли, где оно совершалось: помещик, или его управляющий, или крестьянская община. Обнаружение «мертвого тела» навлекало подозрение на землевладельца, и на этом основании можно было выкачивать изрядные суммы. Поэтому обнаружившие его старались перенести труп на чужую землю или бросить в реку, иначе приходилось кормить и поить сонм полицейских чиновников и платить им большие деньги; вспомним пушкинского «Утопленника»: «Суд наедет, отвечай-ка; / С ним я век не разберусь… / Озираясь, он спешит; / Он потопленное тело / В воду за ноги тащит / И от берега крутого / Оттолкнул его веслом, / И мертвец вниз поплыл снова / За могилой и крестом». Иной раз дело доходило до того, что полиция сама тайно перевозила труп из одних владений в другие, пока он окончательно не разлагался, и, таким образом, наживала кругленькие суммы, собиравшиеся с крестьян или управляющих. Можно напомнить читателю популярную народную песню на стихи Н. А. Некрасова «Меж высоких хлебов…».
Отсутствие собственных средств к существованию городничие, полицмейстеры, квартальные и прочие казенные люди, наблюдавшие за порядком в городе, успешно компенсировали сборами с «благодарного населения». Да как было и не брать взяток городничему, на жалованье которого, по признанию самого министра внутренних дел С. С. Ланского, жить было невозможно (во всяком случае, так утверждал Н. С. Лесков в «Однодуме»). И сами обыватели не претендовали на умеренные поборы: таково было всеобщее представление о жизни. Можно вспомнить гоголевского полицмейстера из «Мертвых душ», который «был некоторым образом отец и благотворитель в городе. Он был среди граждан совершенно как в родной семье, а в лавки и в гостиный двор наведывался, как в собственную кладовую… Дело было поведено так умно, что он получал вдвое больше доходов противу всех своих предшественников, а между тем заслужил любовь всего города. Купцы первые его очень любили, именно за то, что не горд; и точно, он крестил у них детей, кумился с ними и хоть драл подчас с них сильно, но как-то чрезвычайно ловко: и по плечу потреплет и засмеется, и чаем напоит, пообещается и сам прийти поиграть в шашки, расспросит обо всем… Если узнает, что детеныш какой-нибудь прихворнул, и лекарство присоветует… Поедет на дрожках, даст порядок, а между тем и словцо промолвит тому-другому: «Что, Михеич! нужно бы нам с тобою доиграть когда-нибудь в горку!» – «Да, Алексей Иванович, – отвечал тот, снимая шапку, – нужно бы». – «Ну, брат, Илья Парамоныч, приходи ко мне поглядеть рысака: в обгон с твоим пойдет, да и своего заложи в беговые; попробуем». Купец, который на рысаке был помешан, улыбался на это с особенною, как говорится, охотою и, поглаживая бороду, говорил: «Попробуем, Алексей Иванович!». Даже все сидельцы обыкновенно в это время, снявши шапки, с удовольствием посматривали друг на друга и как будто бы хотели сказать: «Алексей Иванович хороший человек!». Словом, он успел приобресть совершенную народность, и мнение купцов было такое, что Алексей Иванович «хоть оно и возьмет, но зато уж никак тебя не выдаст». В автобиографической «Пошехонской старине» М. Е. Салтыкова-Щедрина выведен родственник героя, «р-ский городничий» (по всем признакам – рыбинский), отставной майор, которому «в походе под турка» оторвало ядром ногу: «С утра до вечера, зимой и летом, Петр Спиридоныч ковылял, постукивая деревяшкой, по базару, гостиному двору, набережной, заходил к толстосумам, искал, нюхал и, конечно, доискивался и донюхивался. Лет через десять деятельного городничества… у него был уже очень хороший капитал, хотя по службе он не слыл притязательным. Ласков он был, и брал не зря, а за дело. Купцы дарили его даже «за любовь», за то, что он крестил у них детей, за то, что не забывал именин, а часто и запросто заходил чаю откушать. Каждомесячно посылали ему «положение» (не за страх, а за совесть), и ежели встречалась нужда, то за нее дарили особо. Но не по условию, а столько, сколько бог на душу положит, чтоб не обидно было… Только с рабочим людом он обходился несколько проще, ну, да ведь на то он и рабочий люд, чтобы с ним недолго «разговаривать». – Есть пачпорт? – вот тебе такса, вынимай четвертак! – нет пачпорта – плати целковый-рубль, а не то и острог недалеко. – И опять-таки без вымогательства, а «по правилу»… Он умер, оплакиваемый гражданами, оставив жене значительный капитал (под конец его считали в четырехстах тысячах ассигнациями)…» (158; 132).
А вот не литературный, а подлинный полицмейстер-инвалид, потерявший при Бородине руку, нижегородский Махотин. На первых порах он вроде бы стеснялся «брать», а когда ему приносили «подлежащее», говорил: «Уж это, кажется, много!». А уже через год, попривыкнув, ласково пенял приносящим: «Маловато, батенька, маловато, что-то скупиться стали!». Через пять лет он уже приобрел два дома и хутор – это с полицмейстерского-то жалованья! Правда, Махотин занимался еще и предпринимательством: скупая на Нижегородской ярмарке чихирь у кавказцев, фабриковал из него «шампанское» и затем навязывал его содержательницам ярмарочных публичных домов. Закончил Махотин земное поприще генералом и крупным нижегородским помещиком (163; 448). Но если Махотин требовал «подлежащего», то его преемник фон Зегенбуш не брезговал даже четвертаками. Особенно же солоно пришлось нижегородцам при следующем полицмейстере – Лаппо-Старженецком, отставленном со службы за «соляное дело» Вердеревского, о чем уже говорилось выше. Об этих трех полицмейстерах нижегородцы говорили: «Один брал одной рукой, другой – двумя, а третий лапой загребал».