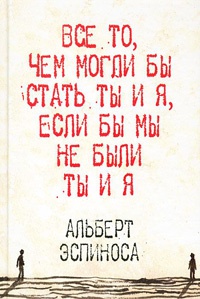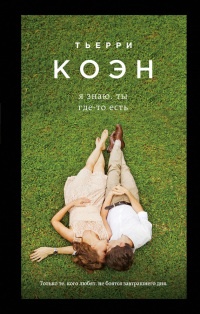Книга Мое имя Бродек - Филипп Клодель
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Чего тебе надо, Бродек?
– Поговорить. Открой.
– Сейчас не лучшее время.
– Открой, Шлосс, сам прекрасно знаешь, что мне надо составить Отчет.
Слово само по себе сорвалось с языка. Я употребил его впервые, и мне это даже показалось странным, но произвело немедленный эффект на Шлосса. Он закрыл ставень, и я услышал его торопливо спускавшиеся шаги. Через несколько секунд он отодвинул засовы и приоткрыл большую дверь.
– Входи быстрее!
Он захлопнул ее за моей спиной с такой поспешностью, что я не удержался и спросил, уж не боится ли он, что к нему проскользнет призрак.
– Не шути с этим, Бродек… – Он дважды перекрестился. – Так чего тебе надо?
– Покажи мне комнату.
– Какую комнату?
– Не притворяйся, будто не понимаешь. Комнату.
Казалось, Шлосс размышлял и колебался.
– А зачем тебе на нее смотреть?
– Хочу видеть ее сейчас. Хочу быть точным. Не хочу ничего забыть. Я должен все рассказать.
Шлосс провел рукой по лбу, блестевшему, словно он натер его топленым свиным салом.
– Там особо не на что смотреть, но раз ты настаиваешь… Иди за мной.
Мы поднялись на второй этаж. Шлосс со своим большим телом загромождал всю лестницу, ступеньки под его весом прогибались. Он сильно пыхтел. Дойдя до верхней площадки, он достал ключ из карманчика на своем фартуке и протянул его мне.
– Можешь сам это сделать, Бродек.
Мне только с третьей попытки удалось повернуть его в замке – так тряслись руки. Шлоссс стоял чуть в стороне и пытался унять одышку. Наконец раздался тихий щелчок. Я открыл дверь. Мое сердце казалось мне затравленной птицей. Я боялся снова увидеть эту комнату, боялся встретиться тут со смертью, но то, что я увидел, так меня поразило, что все мои страхи разом улетучились.
Комната была совершенно пуста. Не было уже ни мебели, ни вещей, ни одежды, ни дорожных сундуков, ничего, за исключением большого, встроенного в стену шкафа. Я распахнул обе его створки. Он тоже был пуст. Не осталось больше ничего. Словно Андерера никогда здесь не было. Словно он никогда и не существовал.
– Куда подевались все его вещи?
– О чем ты говоришь, Бродек?
– Не издевайся надо мной, Шлосс.
Комната пахла мокрым деревом и мылом. Пол был обильно полит водой и выскоблен. Там, где раньше стояла кровать, на лиственничном полу виднелось большое темное пятно.
– Это ты пол отмыл?
– Надо же было кому-то это сделать.
– А пятно? Это что такое?
– А сам-то ты как думаешь, Бродек?
Я повернулся к Шлоссу.
– Сам-то как думаешь… – повторил он устало.
Сегодня утром я проснулся очень поздно. И в моей голове стучали молотки. Похоже, вчера вечером я и в самом деле перебрал. Бутылка водки почти пуста. У меня во рту все пересохло, как трут[5], и мне невдомек, каким чудом я смог добраться до постели. Я писал допоздна и помню, что уже не чувствовал своих пальцев, так они закоченели от холода. Помню также, что клавиши машинки заедало все чаще и чаще. Все стекло покрылось изморозью, заросло ледяными папоротниками, а я был настолько пьян, что решил, будто это лес обступил сарай, чтобы задушить его, а заодно и меня вместе с ним.
Когда я встал, Федорина ни о чем меня не спросила. Приготовила мне какой-то отвар, в котором я узнал запах чабреца, медовой мяты и молодила[6]. И просто сказала: «Выпей это, тебе полегчает». Я послушался, как в те времена, когда был ребенком. Потом она поставила передо мной корзинку, которую чуть раньше принес Альфред Вурцвиллер. Внутри оказался картофельный суп, серый хлеб, пол-окорока, яблоки и лук-порей. Но не деньги. Не похоже на почтовый перевод из S., показывающий, что Администрация не совсем меня забыла. Там, кроме денег, всегда бывает и три-четыре официальных документа, со множеством печатей, подписанных там и сям и удостоверяющих выплату. А тут, в корзине, было только съестное. И я не мог не увязать это с моим вчерашним выступлением перед мэром и прочими. Так мне заплатили. Немного. За Отчет. За то немногое, что я уже написал, а главное – за то, чего не написал.
Федорина затеяла купать Пупхетту в ушате. А та хлопала в ладоши и била ими по теплой воде. Заливисто смеялась и все повторяла: «Ма-нькая рыбка! Ма-нькая рыбка!» Я взял ее на руки, всю мокрую, прижал ее к себе и поцеловал ее голое тельце, мягкое и теплое, отчего она залилась еще пуще. Позади нас, сидя у окна и блуждая глазами по заснеженной необъятности ущелья, Эмелия все напевала свою песенку. Пупхетта стала вырываться, и я поставил ее на пол. Она взяла немного пены в ладошку, подбежала к своей матери и бросила в нее пену. Эмелия повернулась к малышке, не преставая напевать. Посмотрела мертвыми глазами на прелестную улыбку Пупхетты, потом снова стала смотреть на белизну.
Я чувствую себя слабым и ни на что не годным. Пытаюсь писать всякую всячину. Но кто это будет читать? Кто? Лучше уж мне взять на руки Пупхетту с Эмелией, взвалить на спину старую Федорину и узел, наполненный съестными припасами, одеждой да несколькими прекрасными воспоминаниями, и уйти отсюда подальше. Начать сначала. Все начать сначала. «По таким поступкам и узнают человека», – говаривал нам когда-то Нёзель. «Человек – животное, вечно начинающее сызнова». Нёзель сыпал сентенциями и ораторскими паузами, упершись обеими руками в свой широкий письменный стол и всегда оставляя после них мертвую тишину, которую каждый из нас заполнял по-своему.
«Человек – животное, вечно начинающее сызнова». Но что же он беспрестанно начинает сызнова? Свои собственные ошибки или возведение хрупких лесов, которым порой удается вознести его на два пальца к небу? Этого Нёзель никогда не говорил. Быть может, потому что знал, что жизнь, в которую мы еще не совсем вступили, в конце концов сама нас этому научит. А может быть, просто потому что и сам ничего в этом не смыслил, поскольку никогда не колебался и всегда сосал книжное млеко, забыв и настоящий мир, и тех, кто в нем пребывает.
Вчера вечером Шлосс, принеся мне горячее вино, без приглашения уселся напротив. Я прекрасно чувствовал, что он хотел мне что-то сказать, но мне самому сказать ему было нечего. Голова была еще слишком занята всем тем, что рассказал мне священник Пайпер. Да к тому же я хотел всего лишь выпить стакан горячего вина, почувствовать, как огонь вновь оживляет мое тело. И все. Ничего другого я не искал. В моем мозгу кишели вопросы без ответов вперемешку с сотнями маленьких деталек большого механизма, который мне оставалось изобрести, чтобы собрать их воедино.