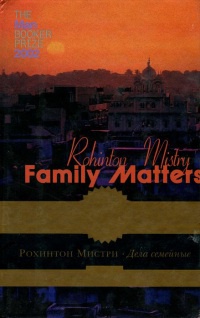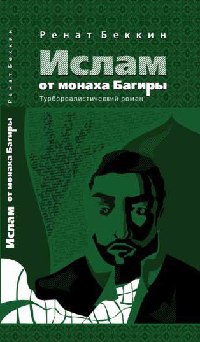Книга Не исчезай - Женя Крейн
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Я поняла. Ты – это он. Все то, что было им, сущность… квинтэссенция…
– Ничего ты не поняла… Ну да ладно. Поначалу я отовсюду уходил. Может, потому, что не видел разницы между собой тем, который находился в стенах учреждения, пусть даже интеллектуального учреждения, и тем, кем я был вне его стен.
– Я знаю! – Вскочила и подошла, дотронулась до руки. Большие, натруженные руки крестьянина. – Я тоже! Куда бы я ни пришла работать, мне кажется, что я уже не существую вне этого места. Не существую вне моей семьи, ребенка, желаний мужа…
– Глупости! Люба, ты неумна. Прости меня, девочка. Но при чем здесь ты? Я тебе рассказываю… Впрочем, пусть будет, как ты хочешь. Какая разница? Так слушай, я сам себе не доверял. Я стал ощущать, что лишь от меня самого зависит понять, есть ли во мне этот дар, могу ли я, смогу ли я. Если прежде мое мнение о себе зависело от моих учителей, включая мать…
– И твоего отца, твоего умершего отца, да?.. – опять прервала его Люба. – Ты боялся, хотел ему доказать…
– Чушь! Не прерывай меня. От меня одного зависело… Ну вот, сбила! Я говорил, что тогда для меня стал важен мир писательский и пишущий. Я стал зависим от тех, кто писал до меня.
Оглядывалась – здесь ли Роберт? С кем говорила? За кем записывала? Истинный Роберт или призрак поэта – его ли это голос? Слова, суждения? Смех? Чья это горечь?
Лоуренс Томпсон написал монографию в трех томах. Поэт и деспот. Жестокий муж и безответственный отец. Поклонницы. Всеобщее признание. Фрост, безумно жаждавший славы. Комплексы и стремление доказать всему миру, что талантлив. В ответ на все унижения (объяснял Томпсон), после долгих лет безвестности, когда не был способен зарабатывать на жизнь, чтобы обеспечить семью. На протяжении тридцати лет Лоуренс постоянно переписывался с Фростом, считался учеником, другом семьи. Не раз останавливался у него в доме, подолгу жил с Фростами – запросто, словно родственник, член семьи. В одном из писем он написал Роберту: «Это истинная правда – я вас люблю». Но от любви до… Ученик не остался в долгу. Припомнил своему великому учителю все унижения, обиды. Спроецировал на него свое неприятие… Получился позер, мелочный, злобный, готовый воспользоваться поэтической формой, чтобы «сбежать от замешательства в идеализированные позы». Томпсон создал биографию, в которую многие поверили. На потребу завистливого обывателя, жаждущего низвержения прежних кумиров, чьи строчки заставляли тебя заучивать в детстве. Чьими формулировками пользуешься и по сей день – строчки всплывают и там и сям. И вот уже, покопавшись в прошлом, мы извлекаем на свет, на общее поругание, нелицеприятные скелеты из пыльных шкафов поэта. Лишь некоторые ученые мужи продолжают писать, реабилитировать Фроста. Воссоздают, очищают образ поруганного поэта.
Между тем низвержение литературных кумиров становится модным. Фрост далеко не одинок, а компания Томпсона пополняется все новыми тружениками на сей ниве – где же еще зарабатывать себе литературное имя? Томпсон утверждал, что поэзия давала возможность Фросту «наносить ответный удар или наказывать». Кто наказывал и кого? Кто наносил «ответный удар»? Мститель, жаждавший триумфа над обстоятельствами, отмщения всем, кто не пожелал его признать, походя или намеренно обидел.
У Любы на душе тихое бабье лето. Золотистым светом пронизан день; ночь – бархатная, насыщенная обещаниями, пронзительной мечтой. Люба пишет вновь, чувствует вновь, живет, дышит; грудь вздымается, ресницы опускаются долу. Ах нет, не тихое бабье лето; это пекло. Под ресницами у нее – пламя. Бредет по улицам, словно дремлет. Машину ведет так, что ей гудят возмущенно и справа и слева. Любе все нипочем. Роберт Фрост поселился в ее мыслях, в сердце, в супружеской постели. О Роберте она пишет, о нем же мечтает, его ждет, книги о нем читает. Разыскивает в Сети все, что можно найти; засиживается в библиотеке. Жаждет отыскать неизвестные строки. Листает, читает, мечтает – и вновь читает. Кто он был? Каким был?
Добравшись до работы, прослушав в машине очередную главу из новой книги о Фросте, Любе не терпится поскорей оказаться у компьютера, чтобы проверить свои неожиданные идеи. Записать. Увековечить. Спускаясь по трем ступенькам старого здания на пути в свой крохотный офис, вытаскивает ключ из сумки, чтобы отпереть дверь подъезда, поднимает затуманенные глаза и видит: сквозь пыльное стекло из подвального окна, сверля жгучими дикими глазами, смотрит на нее мохнатый зверь. Оторопев, вглядывается, мелко подрагивая ресницами, – свет плывет, омывая глаза расплавленным желтком отраженного солнца. Запыленное, затуманенное разводами грязи стекло зернисто отражает кусты, железную ограду палисадника, рельсовые полоски скамейки на обочине, перечеркнутые сеткой забора. Но сквозь пыль и тени зеркальная глубина темнеет густым клубочком дымчатой шерсти.
Увиденное заставляет ее отшатнуться. Она вытягивает шею, вглядывается. В кресле у окна подвальной квартиры, распустив-расставив худые, жилистые ноги, дремлет Гленда. Подопечная, клиентка. Состарившаяся уже, но все еще стойкая, породистая, белая косточка старой Новой Англии. Люба встречает ее в коридорах здания. Кивает, проходит мимо – видит и не видит. Ключ остался в замочной скважине. Люба застыла у подвальных дверей. Здесь грязно и сыро. У самой скважины прилепился паук, замотав себя в кокон. На ступенях дождевые подтеки, растоптанная лепешка жеваной жевательной резинки; обертки, гравий, земля, отекший и застывший цемент. Голова ее, Любина, вровень с грунтом, на котором цветут омытые дождями, траченные садовой тлей кусты колючих стелющихся роз.
За стеклом, на котором танцуют солнечные блики, в каких-то двух-трех метрах от Любы, длинные старческие ноги Гленды. А между ног – тот пушистый зверь, что уставился на нее сквозь туманные тени и отблески. Но зверь – злобный, хмурый, знакомый всему дому голосистый кот по кличке Утюг (Айрон), которая как нельзя лучше соответствует его забористому характеру. Под взглядом Любы зверь спрыгивает с тощих колен Гленды. И вот уже на нее уставилось другое существо – уже не такое мохнатое, потрепанное, седое. А именно: выставленная на всеобщее обозрение – только спустись на три ступеньки, загляни в подвальное окошко, – взору откроется семядисятилетняя, тоже траченная сединой, увядшая плоть Гленды. Видно, подкурила травку, да так и прикорнула у телевизора, подставив себя утреннему солнышку, что не жалеет лучей и для нее, бывшей группи, любовницы Джима, завзятой хиппи, бывшей бунтовщицы, танцовщицы, а теперь вэлферистки Гленды Трэндс.
Бедная Люба, как легко ее смутить. Обидеть, возмутить, вырвать из мечтательного забытья. Всякий раз теперь, стоит спуститься на три ступеньки, достать ключ из сумки, глаза устремляются к заветному окошку. Куда легче иметь дело с любовью воображаемой, надуманной. А там, где плоть реальная, жизнь настоящая? Люба стыдлива, прячет свою плоть – от себя и от людей. Несовершенство жизни не удивляет. Не удивляет и несовершенство плоти. Где набраться силы, закалки, чтобы не скрывать от себя, от людей это несовершенство? Проклятая слабость души. Неизменно, заученно ищет она и находит свои и чужие промахи, замечает и заверяет себя в скудости, убогости окружающей жизни. Какие такие романтические представления заставляют Любу предъявлять требования к реальности? Но это всего лишь отголоски советского воспитания, боязнь материального, скудость жизни, заученный пессимизм, недоверие к людям и вещам. Болезненно замечает она, что, когда окружающие совершают ошибки, ей стыдно за них. Не желает постоянно разочаровываться в других, несмотря на врожденную боязнь людей и чужих суждений. Недоверие – защитный механизм, ограждающий от нескончаемых разочарований.