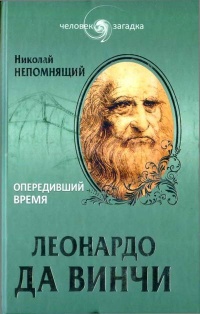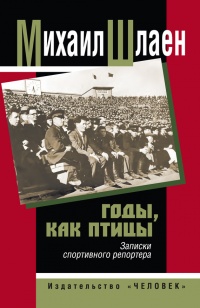Книга Булат Окуджава - Дмитрий Быков
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Вскоре на Вагонку приехал Александр Авдеенко, прославившийся первым романом «Я люблю» (1933). Ему было двадцать восемь, и это был первый писатель, увиденный Булатом. Сам Булат к тому времени считал писателя небожителем, существом высшего порядка (любимцем его был Даниель Дефо), и к Авдеенко, которого поселили у парторга как привилегированного гостя, относился благоговейно.
Сам Авдеенко в автобиографическом романе «Отлучение», опубликованном в 1989 году, вспоминал: «В парткоме меня встречает смуглый, с блестящими глазами, очень кудрявый и очень веселый, энергичный товарищ – секретарь парткома и парторг ЦК Шалва Окуджава. Он толково посвящает меня в дела строительства. Сын Окуджавы, маленький Булат, почему-то не сводит с меня глаз. Смотрит, все смотрит и будто хочет спросить о чем-то и не решается. Глаза у него темные, печальные, неулыбчивые. Утром, когда я возвращался к себе после бритья и душа, обнаружил в своей комнате полуодетого Булата. (Бритье тут – явный эвфемизм, писатель возвращался из уборной; Окуджава особо отмечает, что ванной комнаты и тем более душа в доме не было. „Будем ходить в баню, здесь замечательная баня“, – говорит отец в „Упраздненном театре“. – Д. Б.) Он стоял у стола над моим путевым дневником и мучительно, как мне показалось, раздумывал над единственной строкой вверху чистого, в клеточку, листа». Это была строчка «Мне девятнадцать лет», хорошо запомнившаяся Булату: он тут же решил писать роман, который будет начинаться строчкой «Мне одиннадцать лет», но что рассказать дальше – не знал. Впрочем, как видим, у Авдеенко были те же проблемы.
Авдеенко хорошо знал по Магнитострою, где работал в 1930–1931 годах, прораба Моисея Александровича Тамаркина – легендарного строителя, о котором он рассказывал Горькому при встрече в 1933 году. Тамаркин был прототипом Моргулиса в магнитогорском романе Катаева «Время, вперед!» (1932). На Уралвагонстрое он руководил вагоносборочным корпусом. Это ему принадлежала идея «диспетчеризации» – телефонного управления всеми участками стройки; по меркам того времени это было революционно. Когда в 1936 году следователи начнут допрашивать Тамаркина, готовя процесс против руководителей Вагонстроя – парторга Окуджавы и начальника строительства Марьясина, – знаменитый этот прораб, герой труда, человек редкой отваги и упрямства, покончит с собой, бросившись на шины трансформатора.
После посещения Вагонки Авдеенко опубликовал в «Правде» очерк о Тамаркине – «Инженер трех эпох». Он особенно ставил ему в заслугу заботу о людях – то, что в первую голову были построены бараки, столовая, магазин. Это потом стало пунктом обвинения: саботировал строительство цеха, тормозил работы!
Знакомство с начальником строительства Марьясиным и двумя его сыновьями подробно описано в «Упраздненном театре» – там герои носят фамилию Балясины, а старший сын Марьясина, Илья, в обиходе звавшийся Аликом, переименован в Антона, в обиходе звавшегося Антиком. Трудно сказать, знал ли Окуджава набоковские автобиографические рассказы «Обида» и «Лебеда», в которых его кумир проговорился о подоплеке своего «совершенного детства»: о том, как мучительно застенчивого мальчика считают высокомерным ломакой. Однако рассказ о поездке к Марьясиным выдержан в том же тоне запоздалой и горькой насмешки над собственным неумением поставить себя с людьми: будешь разговаривать открыто и честно – засмеют, а врать он не умеет, отсюда натужность, неестественность каждого слова. Его смутил быт марьясинского дома, о котором отец говорил: «буржуйские причуды». Он никогда прежде не надевал на ночь пижамы – спал в трусах и в майке. Его все время подмывает сказать: «Вы большевики, а живете как буржуи». Вернувшись от Марьясиных, Ванванч сказал родителям, что в гостях ему понравилось – только признался, что его смутил «громадный дом и горничная». «Посмотри на этого маленького большевика!» – восхищенно сказал отец.
Илья Марьясин в воспоминаниях об отце подчеркивает: его интересовали только книги. Мы уже цитировали его слова о том, что у матери не было даже простенького колечка. Если быт Марьясиных показался Булату верхом роскоши – можно себе представить, как жила семья парторга.
2
Несколько позже, весной 1935 года, произошел эпизод, который навеки определил отношение Окуджавы к оружию и любым формам насилия. если только произошел в действительности. Проблема в том, что мы знаем о нем только из «Упраздненного театра»: ни в одном интервью, ни на едином концерте, ни в одном из опубликованных писем Окуджава не упоминает о нем, а ведь в его биографии он по праву может считаться ключевым. «Упраздненный театр» в качестве автобиографического документа не более достоверен, чем «исторические фантазии» семидесятых годов. Читателю отлично видны белые нитки упоминавшихся здесь лейтмотивов, предвестий и внутренних рифм, которыми Окуджава насытил свою исповедь; в некотором смысле она так и задумана – «швами наружу». Принимать ли на веру автобиографическое повествование – каждый решает сам; заметим лишь, что история слишком серьезная – к чему бы Окуджаве в старости так оговаривать себя? Короче, у Ванванча был на Вагонке друг, Афонька Дергач, старше его всего тремя годами. Однако в школу он не ходил и работал, как взрослые, на стройке. «Почему он в свои тринадцать лет работал на стройке, Ванванча не очень заботило. Просто Афонька был старше на три года, он был из другого племени, он был из тех, таинственных и чумазых, что по-муравьиному суетились в громадных котлованах и взбегали по деревянным настилам на свежие кирпичные стены, толкая тачки с кирпичом и цементом, и брызги раствора растекались по их худым лицам и бумажным ватникам.
И Афонька, оттрудившись, перехватив травяного хлебова, торопился к школе подкарауливать счастливые мгновенья. Чаще всего он предлагал Ванванчу поднести портфель и брал его в руки, словно ребенка в обнимку, и нес, поглаживая, и спрашивал нетерпеливо: «Ну, чего было-то? Ну, а учителка чего рассказывала?» – «Ну, чего, чего… про Африку…» – «А чего про Африку?..» – «Ну, как там негры живут…» – «Ну и чего?..» – «А у них снега не бывает. Они голые ходят…» – «Вот мать их… – поражался Афоня, – а едят чего?» – «Антилоп». – «А кто это?» И тогда Ванванч рассказывал ему об антилопах, поглядывая в благодарные, пронзительные Афонькины глаза, и еще в тетрадке рисовал – и антилопу, и копье, и негра с перьями на голове… Через несколько дней Афонька принес копье, которое сам соорудил по рисунку Ванванча, обточил его, прошкурил, приспособил к нему наконечник и стоял у школьных дверей, потряхивая в руке африканским оружием».
Почему он так привязался к сыну парторга – остается лишь гадать: может, тут была своего рода корысть, а может, просто Булат увлекательней других пересказывал уроки, которых Афонька в силу социального происхождения оказался лишен. Как бы то ни было, идиллическая дружба советского принца с советским нищим долго не продлилась. Окуджава исподволь готовит читателя к неизбежному катаклизму: вот Ванванч подглядывает за отцом, любовно чистящим маленький дамский браунинг. Вот отец поясняет ему, что пока револьвер стоит на предохранителе – можно сколько угодно нажимать на курок. Вот он берет с сына честное слово никогда не прикасаться к браунингу без разрешения – и всякому читателю, особенно знакомому со старомодным романтическим каноном прозы Окуджавы, ясно, что запрет будет роковым образом нарушен. И действительно – перед походом в тайгу с Афонькой и его приятелями Ванванч, желая поразить их воображение («Сейчас такое покажу, что вы все ахнете!»), тайком вытащил браунинг из замшевого чехла и продемонстрировал спутникам. В тайге они принимаются целиться в птиц, ветки, друг в друга (браунинг стоит на предохранителе), а потом Афонька, поддерживая игру в войну, кричит Ванванчу: «Стреляй, гад!» – и тот стреляет, и раздается оглушительный выстрел. Как это вышло – в «Упраздненном театре» не объясняется. Афонька медленно идет на Ванванча, по его серой рубахе расползается темное пятно, он тихо стонет, и насмерть перепуганный Ванванч, отшвырнув браунинг, с воем бросается бежать к дому, «из этого зловещего сна». Дальше он бросается на кровать и впадает в беспамятство, засунув голову под подушку. А когда приходит в себя – у постели сидит отец и шепчет: «Я же тебя просил»…