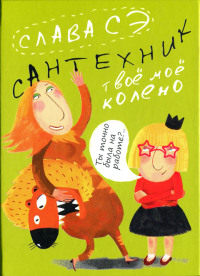Книга Арена XX - Леонид Гиршович
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Спасибо. Было очень вкусно, – Давыд Федорович отодвинул тарелку с бульоном. – Ты можешь мне сказать, дословно, что он тебе говорил?
– Что… Я ему сказала: вы же не коммунист. А он: откуда вы знаете? Вы даже мое настоящее имя не знаете.
Маргарита Сауловна вернулась, заплаканная, но не сдавшаяся.
– Она может поехать в Двинск, у нее там тетя. Переждет. А после приедет туда, где мы.
– Мало ли у кого где тетя… – теперь расплакалась Лилия Давыдовна. Она не могла поверить в происходящее, такое может сниться. Она плакала, как плачут дети, упираясь. Но если их оставят в покое, сами же побегут следом. – У тебя тетя в Буэнос-Айресе, ты же к ней не едешь.
На это Маргарита Сауловна, до сих пор державшая руку за спиной, показывает газету, «Берлинер Музикшпигель», а в ней обведено карандашом: «“Театро Колон” ищет концертного пианиста с опытом коррепетиторской работы. Прослушивание по договоренности. Писать господину Хорхе Тикмеяну, отель “Базелер Хоф”, Гамбург».
– Ты сию же минуту напишешь, что ты окончил петербургскую консерваторию у Анны Есиповой, выступал во многих городах России. Что всегда сопровождал в концертах Андрееву-Дельмас. Что уже двенадцать лет, как у тебя ангажемент здесь, в «Комише Опер». Если мы сейчас это не сделаем, считай, что она улетела на том аэроплане.
Рев стоял иудейский. Лилия Давыдовна ревела, Маргарита Сауловна в своей жестоковыйности – тоже. Когда Давыд Федорович кончил писать, она собственноручно отнесла письмо на почту, послав заказным с уведомлением. Потом собрала Лилию Долин, и той же ночью они вдвоем отправились в вольный ганзейский город Ригу, он же бывший губернский – выбирай, что тебе больше улыбается. Оттуда до Даугавпилса еще час. К счастью, им не нужны визы.
Они ехали на извозчике и кругом лежал снег. Маленькие домики, ни одного автомобиля. Проехали какое-то здание шоколадного цвета с прямоугольным рельефом – лилипуту-очкарику казалось, сейчас придет Гулливер и отломит кусочек.
– Воропаевское училище. Папа здесь учился.
– Горбатые, они злые? – спросила Лилия Давыдовна.
– Они не злые, они живут по своим законам – как твой Берг.
Боже, Берлин! Целый мир рухнул, как карточный домик. Говорят: построено на песке. Построено на магме!
Тетя Роза – между лопаток большой шип – лишилась дара речи.
– Это наша Лилюсь. Пусть поживет немного у тебя. Вот деньги. Если кончатся, здесь браслет, мамин еще. И колечко с розочкой. А я сегодня же возвращаюсь.
– Что, так опасно?
– Смертельно опасно.
На понедельник двадцать первого марта Давыду Федоровичу была назначена аудиция – в два часа дня он должен быть в гамбургском Музикферайне, в хоровой студии.
Он шел по Эспланаде, думая, что, может, еще бы и пронесло. Всё Маргоша – мнительностью она не знает себе равных. Она уже переболела всеми видами рака. Ночью лежит, не спит, ставит себе диагноз. Объясняет так: «Боженька не любит, когда не боятся». Покамест ничего не случилось. Ни одной еврейской фамилии как не было, так и нет. А эти болгары и у себя в Болгарии прославились, тоже что-то взрывали. «Берг сказал…» Если слушать все, что он говорит…
Посмотрел на часы. В том же кармане лежало письмо от Лилечки. Рвется домой. Ее роль досталась Гореславлевой. А как хотелось сыграть Пентезилею. Андрею Акимовичу написала, что срочно должна была уехать к больной тете, инвалиду от рождения. Небось подумал: сбежала с гусарским поручиком.
До прослушивания оставалось еще добрых два часа. Поймал себя на том, что мысленно произнес это по-немецки: «нох цвай гуте штунде». Какой у них язык, испанский? Португальский? Хорхе Тикмеяну… Маргоша говорит по-французски, а он знает только: «Сюр ле пон д’Авиньон он и дансе, он и дансе». Для еврея немецкий язык – язык доверия. За немецким ты как за каменной стеной.
Он зашел позавтракать, не спеша выпил бокал местного пива. Представил себе, как, разувшись, растянется на кушетке. Он ездит первым классом. Кондукторы благожелательны, но без подобострастия, без этого «чайку-с?».
Давыд Федорович отсчитал причитающееся с него, оставив сверх того гривенник, и снова посмотрел на часы: до прослушивания оставалось чуть больше часу, до ближайшего берлинского поезда чуть меньше. Только перейти через Эспланаду, и вокзал. До Музикферайна четверть часа ходу – куда он потащится?
Был мартовский день, по-весеннему синий и ветреный и по-гамбургски морской. В Петербурге такие бывают в конце апреля (он все еще мыслил по старому стилю). Стоя на перекрестке, Давыд Федорович ждал, когда остановится поток движущихся по Эспланаде автомашин. Со вздохом посмотрел на небо (преподаватель: «Ашер, на потолке не написано») и увидел, высоко-высоко, плывущий крестик аэроплана («Считай, она улетела на том аэроплане» – новый прусский министр полиции в войну тоже был пилотом). Регулировщик поднял руку, но Давыд Федорович, вместо того чтобы перейти со всеми, повернулся и пошел дальше.
Он совершенно не волновался, вернее, единственное, что его волновало – то что этот Хорхе Тикмеяну не знает немецкого. Поэтому, когда тот заговорил с ним по-русски – Боже, что случилось с Давыдом Федоровичем!
– Я говорю на всех языках, – сеньор Тикмеяну стал скороговоркой перечислять: – По-русски, по-французски, по-испански, по-румынски.
– Я, к сожалению, говорю только по-немецки.
– Научитесь. Как говорится, где наша не пропадала.
Давыд Федорович подошел к «бехштейну».
– Я приготовил небольшую программу.
– Вы желаете что-нибудь исполнить? Я признаюсь честно: Фриц Буш понимает в этом лучше меня. У нас было еще несколько предложений, но он сразу сказал, что хочет вас.
– Но… он же в Дрездене.
– Он был в Дрездене. Со следующего сезона он у нас. Мы в южном полушарии, у нас сезон заканчивается перед Рождеством. Вы, если хотите, можете приступить раньше. Сколько времени вам надо на переезд? – и Тикмеяну открыл молнию на плоском портфеле, из тех, что носят под мышкой, как делопроизводитель – папку.
– Контракт, правда, по-испански. Кот в мешке… ха-ха-ха!
Все произошло столь молниеносно и выглядело так несолидно, что походило на жульничество. И тем не менее на улицу Давыд Федорович вышел, имея на руках договор, причем в двух экземплярах, копия предназначалась в аргентинское консульство.
Какой-то человек на мосту через Альстер, прислонясь к парапету, играл на гармони заунывные русские вальсы. Давыд Федорович величественно прошествовал мимо, но затем вернулся и кинул в шапку монету – ведь никогда больше не окажется в этом городе, на этом месте.
Ни от чего не зарекайся. Спустя месяц он приехал сюда – играть в шараду. Называлась она: «Последние слова великой русской прозы, или Что спрятал матрос?»
Кто угадал? Вы? Пожалуйста.
– Там, перед нами, где прерывчатый ряд домов отделял нас от гавани и где взгляд встречали всякие сорта камуфляжа, как, например, голубые и розовые сорочки, пляшущие на веревке, или дамский велосипед, почему-то делящий с полосатою кошкой чугунный балкончик, – можно было разглядеть среди хаоса косых и прямых углов выраставшие из-за белья великолепные трубы парохода, несомненные и неотъемлемые, вроде того, как на загадочных картинках, где все нарочно спутано («Найдите, что Спрятал Матрос»), однажды увиденное не может быть возвращено в хаос никогда.