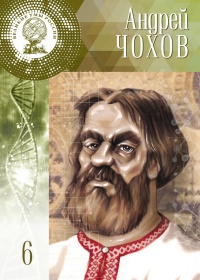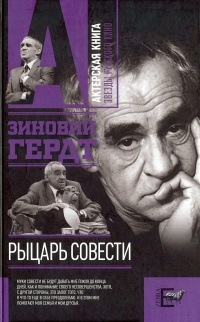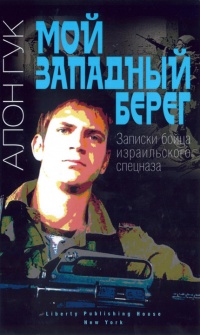Книга Обмененные головы - Леонид Гиршович
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
И мне ничего не мешает в немцах? (В действительности мне мешает в немцах лишь одно – что они говорят по-немецки, но уж это в них не исправишь.) Вместо ответа я смотрю на часы: вечер еще только начинается. Я ей нравлюсь, этой стриженой мартышке, жене хирурга из Цвейдорферхольца, «внучатой невестке» Готлиба Кунце. Наша физиология уже тут как тут – наготове и протягивает лапки. Но – изыди, сатана. Покрыть замужнюю женщину, в качестве прелюдии обсудив с ней моральный аспект геноцида, сталинского и гитлеровского, – это как плюнуть себе в морду.
Поэтому снова о Германии. Мир немецкой культуры естественно простирался от Балтики до Адриатики и от Лемберга до Страсбурга – пока попытка зафиксировать это политически все не погубила. Как бутерброд, что «по закону подлости» (так говорили в Харькове) падает всегда маслом вниз, Германия оказалась исторически опрокинутой на свою надстройку: поверх романтической культуры – в полном согласии с ее эстетикой – создавалась государственность. И получалось, что псы, которыми у Клейста Пентезилея травит Ахилла – дабы отведать его крови, – становятся прообразом немецких овчарок Аушвица.
Она уже не перечила. Интеллектуально я положил ее на лопатки – и уже прикидывал, чей телефон сейчас наберу, чтобы безотлагательно закончить начатое с нею; начались съезды на Циггорн: Линденгартен, следующий на центр – веселившийся в свете рождественских витрин, толкавшийся в торговом таборе на Марктплац, осовело пялившийся из-за столиков на официантов, вальсирующих с гирляндами пивных кружек или с горами жаркого; в опере давали сегодня «Скрипача на крыше» – Шор играет хасидские мелодии, сцена убрана под Шагала, подземный гараж ломится от «мерседесов» богатого мышиного цвета.
Я остановился в гостинице? Я молчу. Случайное прикосновение к моим пальцам. Но в случайность я не верю, как уже говорилось, а в случайные прикосновения и никто не верит, со времен Адама и Евы. Кого же сейчас можно застать дома? Воскресенье, у веснушчатой Дорис дежурство в больнице – сестра милосердия… Ласково: так где же я остановился? Зеленый свет, мы тронулись в общем потоке, прикосновение к моей руке было коротким, но обязывало меня произнести свое jamais! – что я и сделал, не колеблясь: она замужем, мать двенадцатилетнего сына, а я человек твердых правил.
Пусть думает: азиатская ментальность – она же болеет душой за третий мир, значит, «поймет».
Поняла и успокаивает меня: на этот счет я могу совершенно не волноваться: они с мужем практически уже давно разведены, не живут вместе.
Я тоже с женой был практически разведен – и даже не практически. Тем не менее возникла мучительная аналогия. Разведены и вместе не живут, да? А тринадцатого декабря еще жили вместе и как ни в чем не бывало всей семьей собирались к бабушке Доротее на Wochenende – это когда ее мужа Инго вызвали на срочную операцию и пришлось остаться дома.
Поначалу безмолвие, в продолжение которого я укорял себя за длинный язык, ведь теперь мне предстоит выбирать между израильской спецслужбой и частным немецким сыском: трудно сказать, что хуже в ее глазах, а честно рассказать, кто я и что я и что учу Дэниса Рора играть двумя пальцами «собачий вальс» и как раз тринадцатого декабря узнал от Роров то, что, собственно, и сказал ей, – значило свести воедино мое настоящее и мое прошлое. Я этого не желаю ни под каким видом. Для Циггорна, для Роров, для Шора, для Ниметца у меня не было прошлого.
Ах, за ними за всеми установлена слежка? По какому праву? Ну ясно, какое тут может быть право. Отлично! Она предпочитает, чтобы за ней следили издали, – с этими словами меня ссадили с корабля, к счастью, не на необитаемый остров, а вблизи остановки трамвая. Глупо.
Дома перед телевизором: по первой – спорт, по второй – мыльная опера со взрывами бутафорского смеха за кадром, по третьей – дискуссия с участием Петры (даже двух) и еще нескольких добрых людей. О чем? Я уже не стал вслушиваться. Может быть, почитать книжку?
У меня был страшно неприятный осадок, хотя – я в этом себя убеждал совершенно справедливо – на больший успех, чем сегодня, рассчитывать просто не приходилось. Полный успех был бы пресный, без тайны, без загадочного сопротивления, без портрета Гитлера (черт побери!). А так, глядишь, и разгадка будет ого какая! А на Петру плевать – плевать! плевать! плевать! Делу это не помеха, а в остальном – плевать! Я переживал. Гитлеры, Геббельсы, Доротея Кунце, живое их продолжение – ко всему этому я относился с академическим бесстрастием, а здесь переживал. И пусть себе думает, что каждый ее шаг фотографируется, – есть, наверное, чего испугаться. Так что же, почитать книгу или послушать музыку?
По УКВ первая же станция передавала дуэт Юдифи и Саломеи – сцена во рву: среди груды обезглавленных тел они ищут Олоферна и Иоханана, чтобы вернуть их к жизни. Готлиб Кунце, «Обмененные головы». Случайностей нет, меня дразнят. Я вспомнил, что хотел привести женщину, и с четвертой телефонной попытки преуспел, сговорившись с одной продавщицей (мой сераль: продавщицы или сестры милосердия – символично, не правда ли?).
На следующий день телефонный звонок прервал мой второй сон – первый сон был на совести моей гостьи, к девяти спешившей на работу. Кто мне мог звонить: какой-нибудь оллендорфский театр, с предложением, за которое я ухвачусь со спортивной жадностью? Шор – хочет махнуться спектаклем: Рождество его, Сильвестр мой? Мамаша ученика: приходить им сегодня на урок или у меня тоже каникулы? Почивавшая у меня продавщица просит два билетика на «что-нибудь хорошее»?
Но звонок был из Израиля. Эся получила мое письмо и спешила высказать все, что она по этому поводу считает. Институту «Яд вашем», откуда она звонила – не из дому же, да и разговор, можно сказать, служебный, – ее соображения стоили марок под сто (курс падающей лиры мне более неведом, небось «земля стремительно приближалась» ).
Я совсем рехнулся – изображать Кунце спасителем евреев. Понимаю ли я, что это (в нос, по-французски) macabre? Или здесь, в Германии, у меня уже все чувства окончательно атрофировались? Кунце!.. Из-за которого ее несчастный отец так настрадался, этот типичный садист, а что он в тридцатые годы говорил! В тридцать восьмом они таки сорвали ему в Париже премьеру… И – страшно выговорить: Праведник мира. Осталась ли у меня хоть толика святого в жизни? Сомневается. Немецкая свинина – вот теперь моя святыня. Это до какой низости надо дойти, чтобы утверждать, что человек, который сфотографирован идущим на смерть, родной дед, вовсе не был расстрелян, а здравствовал и процветал все это время в Германии, на скрипке играл. А привечал его – Кунце! О, она понимает, почему я это затеял. Кое-кто за эту идею с большим удовольствием ухватился. Как же, сам внук раскопал. Так вот, чтоб я знал: этому не бывать. Она дочь и родной кровью торговать не позволит.
Я слушал, не пытаясь – даже смешно – отвести от себя этот поток брани, оскорблений – обескураживающе чудовищных. Но когда, исчерпав, видимо, содержимое собственных болячек, она принялась вскрывать мои: не удивляется Ирине и очень даже за нее рада, три недели как свадьбу сыграли, в «Леиша» («Тебе, женщина») было напечатано, кто был приглашен… – тогда я просто положил трубку.