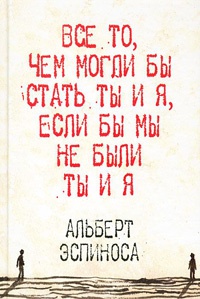Книга В ожидании Конца Света - Марианна Гончарова
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Выхожу на веранду, всю залитую солнцем. Так хорошо, приятно шлепают ступни по прохладному полу. На столике яркий душистый компот и бабушкины пирожки. С чашкой, на которой печальный толстенький медвежонок, с моей любимой чашкой в одной руке и пирожком в другой, подхожу к окну, подглядываю из-за занавески. Соседка, веселая Жанна, чистит свежую рыбу и напевает:
— Скажите, девушки, подружке вааашей…
Мне нужно одеваться, хватать нотную папку и бежать на занятия. У бабушки в доме нет инструмента, я хожу заниматься музыкой в быткомбинат. Бабушка заплатила за прокат пианино, и я играю там, в отдельной комнате. Каждый день по часу. С какого-то времени я уже перестаю брать с собой ноты. На вопрос бабушки, почему я оставляю папку с нотами дома, отвечаю, что уже все выучила наизусть. На самом деле причина в другом. Дежурная быткомбината, баба Нора — пышная, ходила вперевалочку, губы красила очень красной помадой, делала себе старомодную прическу валиком надо лбом — отпирает мне кабинетик, где стоит пианино, и тут же просачивается следом за мной. Она усаживается в уголке, вяжет на спицах что-то длинное, цветное, безразмерное и делает мне замечание:
— Ну хватит уже! Играй музыку! — бурчит она, если я разыгрываюсь слишком долго. Гаммы ей надоедают. Я начинаю играть «музыку», она кивает в такт. А потом я исполняю специально для нее что-то из ее молодости. Она, пожалуй, чуть старше моей бабушки, поэтому я примерно знаю, что именно ей может понравиться. Я играю и пою ей все, что слышала из патефона у подруги моей и соседки Людочки Поповой:
«Вдыхая розы аромаааат, тенистый вспоминаю сад… и слово нежное люблю, что вы сказали мне тогдаааа».
«Отчего — ты спросишь — я всегда в печали, слезы, подступая, льются через край…».
«Мне сегодня так больно, слезы взор мой туманят…»
И в конце я, десятилетняя пигалица, страстно воплю:
«Ну не будь таким жестоким. Мой нежный друг, если можешь, прости!..»
И баба Нора в знак согласия вздыхает и мотает головой, мол, ну надо же.
Через какое-то время, неделю или полторы с начала моих занятий, она спросила, можно ли позвать ее подруг — послушать песни. И я милостиво согласилась. Можно, почему же нельзя. Ее подружки стали приходить раз или два в неделю, принаряженные, смущенные и надушенные цветочными духами. Носовые платки они аккуратно складывали и подсовывали под ремешок часов. Женщины, скорее бабушки, сначала просто кивали в такт, а потом не выдерживали и начинали тихонько напевать под музыку:
«Прощались мы, светила из-за туч луна… К любви возврата больше нет…»
Иногда они просили: а теперь давай «Марусечку». Меня не надо было долго уговаривать. Я бойко тарабанила проигрыш, и они вступали сначала робко, а потом громче и увереннее, с удовольствием, играя бровями, плечами и понимающе переглядываясь:
«Как-то вечерком с милой шли вдвоем…
…Моя Марусечка, моя ж ты кууууколка…
…а жить так хочется, я весь горю, тебя молю, будь моей! Же-ной!»
У меня был головокружительный успех. Бабушки эти, подружки бабы Норы, уходили из быткомбината возбужденные, раскрасневшиеся, с омытыми воспоминаниями душами, с радостными глазами, отдуваясь и обмахиваясь платочками. После каждого такого выступления меня одаривали конфетами, шоколадками, яблоками, грушами, кульками с малиной или абрикосами. Так длилось, наверное, недели три, пока о моей нелегитимной концертной деятельности не узнала бабушка. Она заметила, что папка с барельефом Петра Ильича Чайковского опять и опять остается дома, и червь сомнения погнал ее в быткомбинат, посмотреть, за что конкретно она платит немаленькие деньги и какой же именно музыкой занимается ее внучка. И пришла она именно в тот момент, когда я, как заправский ресторанный тапёр, лабала «Сашку». И мы все радостно изо всех сил голосили:
«Саша! Ты помнишь наши встречи в Приморском парке на берегу…»
Как слаженно и весело пел хор: мой тоненький писклявый голосишко и ласковые, немного дребезжащие голоса моих новых подруг. Бабушка молча, терпеливо выдержала мой очередной триумф, переждала, пока счастливые дамы, улыбаясь и делая комплименты бабушке и ее талантливой внучке, уйдут, повела меня домой. Я трусила рядом с ней и тихонько попискивала, как нашкодивший котенок. Бабушка грозно и размашисто ступала и, крепко держа меня за руку, говорила и говорила. Она обещала, что я доиграюсь, что когда вырасту, мне будет одна дорога — играть в кинотеатрах перед сеансами. Для бабушки это был пример самого низкого падения, ниже некуда. Бабушка предрекала, что я буду сидеть на низкой сцене за разбитым роялем в холодном полутемном фойе, люди будут вокруг бродить в пальто, а я буду аккомпанировать певице-алкоголичке. В гардеробе у нас на двоих будет всего одно платье на все случаи жизни, потому что в кинотеатре платят копейки, а все деньги будут уходить у нас с безымянной певицей на водку и папиросы. А главное — бабушка даже остановилась и взглянула мне прямо в глаза, чтобы я запомнила это раз и на всю жизнь, — в кинотеатре никто! никогда! никому! не аплодирует!
Меня посадили под домашний арест, и несколько дней я не ездила на пляж. На уроки музыки я больше не ходила. И на улицах, иногда встречая и здороваясь со своими хористками, обнаружила, что в отрыве от инструмента они меня не узнают. Здороваются сухо, машинально или даже отводя глаза. Тогда, в мои десять лет, я поняла, как преходяща слава.
Хотя накрепко выученные на слух старые песенки однажды мне все-таки пригодились.
Мой папа был тренером по гимнастике. Это по специальности. А работал он в обычной школе. Мы с мамой посмеивались, потому что он говорил знакомым: «Я работаю в средней школе, читаю физкультуру». Вот это вот «читаю физкультуру», как «читаю физику» или «читаю математику», было очень забавно. Но папка относился к своим урокам очень серьезно, дети его любили. А уж уроки гимнастики он проводил как никто другой в нашем регионе. Он и сам был мастером спорта по гимнастике, и если бы не травма руки, несовместимая с большим спортом, наш папка ого какой был бы знаменитый, потому что у него была гигантская воля к победе. И вот к нему должны были привезти гостей — посмотреть, как он проводит уроки гимнастики для девочек. Тут уж папка развернулся — вот тут уж он им покажет, он им ого как покажет! И поскольку в школе не было лишнего музыканта — учитель пения работал на полставки, — папа, естественно, привлек меня. Он репетировал с девочками сольное выступление — с мячом, с булавами, с лентой. А я сидела за роялем и попадала им в ногу. Где надо чуть задерживала, где надо ускорялась. Здесь как никакая другая музыка подходила та самая — любимая песня моей и бабы Норы старушечьей компании.
И к слову, папины гимнастки так всем тогда понравились, так понравились! А уж заместителя заведующего облоно Качку Татьяну Аркадьевну, пожилую насупленную одышливую даму с серебристой укладкой, в черном костюме и орденскими планками на груди, удалось растрогать до слез именно музыкой ее юности. Она, как самая простая, самая обыкновенная старушка из тех моих родимых хористок, вытащила из-под ремешка часов носовой платок и стала плакать под музыку песни «Расстались мы».