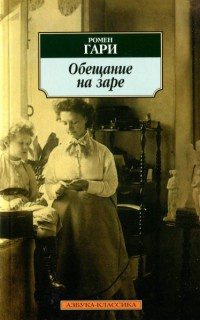Книга Цвета дня - Ромен Гари
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Ну ладно, ладно — сказал Ла Марн. — Вы знаете анекдот про кавалерийского офицера и его кобылу?
Он съежился под взглядом Гарантье, как под бормашиной дантиста.
— Нет, серьезно, — сказал Гарантье. — Вилли здесь уже нет, так что можно не фиглярничать… Я абсолютно уверен, что уже встречался с вами. Может, в Лиге по Защите прав человека?
— Что вы ко мне цепляетесь? — рассердившись наконец, заныл Ла Марн. — Разве у человека нет права подурачиться хоть раз в жизни! Нет права сменить профессию? Я — честный работяга, делаю свое дело и не занимаюсь этим… Разве я у вас спрашиваю, с кем вы спите? — (Про себя: он меня достал.)
Все же на какое-то время они погрузились в ностальгическое молчание, как два старых гребца из Оксфорда, перебирающих в памяти свои девяносто поражений от команды Кембриджа.
— Выпейте еще виски, старина, — сказал Гарантье. — Что стало с остальными членами команды?
— Совершенно не понимаю, на что вы изволите намекать, — проговорил Ла Марн с неподражаемым чувством достоинства.
— Мальро, к примеру, в лагере генерала де Голля, — пояснил Гарантье. — Что является, конечно же, самым, какой я только знаю, сенсационным разрывом с эротизмом. А другие?
— Оставьте меня в покое, — сказал Ла Марн. — Я только что целых два часа скреб вашего хозяина и не собираюсь доставлять удовольствие вам и скрести вас, там, где вам хочется. Сами скребитесь.
— А малыша Дюбрехта помните? — спросил Гарантье. — Того, что вслух мечтал на митингах о французском коммунизме, гармоничном, братском, без какого-либо различия, бесконечно озабоченного переустройствами, гуманностью, всецело занятого спасением вечных французских ценностей мер и весов — равновесия и свободы. Что с ним сталось?
— Он по-прежнему коммунист, — сказал Ла Марн. — Вот что с ним сталось.
— А остальные? В тридцатые годы левых интеллектуалов было в Париже не так уж много. Что с ними сталось, со всеми этими трепетными и вдохновенными лицами, которые мы видели на сцене «Общества взаимопомощи»?
— Есть среди них и такие, кто продолжает печататься, — сказал Ла Марн.
— Это в высшей степени прекрасно.
— Но большинство из них так никогда и не оправились от своих ран. Было ведь уничтожение нацистами пяти миллионов евреев — и что бы там ни говорили, это происходило среди людей, — было ведь обращение в пыль Хиросимы — также среди людей, — были политические процессы в Восточной Европе и повешения — среди людей, дорогуша моя, среди людей, хотим мы этого или нет, и был германо-советский пакт тысяча девятсот тридцать девятого года, может, вы о нем слышали?
Гарантье снисходительно улыбнулся. Воспоминание о пакте было для него особенно отвратительно, и он испытывал из-за этого восхитительное чувство принадлежности, величия и восторженности. Ибо для него принести подобную жертву и согласиться проглотить подобную пилюлю было чем-то вроде доказательства — черным по белому — благородства и чистоты преследуемой цели. Он достал из портсигара сигарету «Собрание», вставил ее в мундштук и закурил. Все вместе — рука, золотая зажигалка, слоновая кость и сигарета — составляло приятный для глаз натюрморт. Ла Марн машинально скользнул взглядом по остальной части картины: пиджак старомодного покроя, из английского твида, с высоко сидящими пуговицами, узкие брюки, почти в стиле Эдуарда, и изящные восхитительно натертые высокие ботинки, — над кем он насмехался? Над самим собой? В сущности, подумал Ла Марн, во всем этом, вероятно, одно лишь гигантское отвращение к эпохе и неодолимая ностальгия по прошлому. Ностальгия по времени, когда все идеи еще были цельными, когда они еще не стали печальной реальностью.
— А Пупар? — спросил Гарантье. — Тот, что выступал во Дворце спорта с тридцать четвертого по тридцать девятый год с пророческими речами о миролюбивой воле народов, которая должна была помещать новой войне, и о мужестве масс, которое должно было сделать бесполезными крестовые походы и позволить упомянутым массам освободиться самим?
— Он выращивает на юге орхидеи. Каждый отыгрывается как может.
Гарантье какое-то время колебался. Ла Марн насмешливо наблюдал за ним. Он не даст себя провести Гарантье с его тонкими уловками.
— А… этот Ренье? — спросил наконец Гарантье. — Он входил в Комитет за освобождение Тельмана в девятсот тридцать четвертом году, не так ли? Кажется, его так зовут.
— И что дальше?
— Что с ним стало?
— Так вот, к чему вы клонили, ха!
— Речь идет о моей дочери, — сказал Гарантье. — Для меня это остается единственным, что. В общем, мне хотелось бы знать.
Он смолк. Это и вправду было невозможно. Все-таки не мог же он опуститься до того, чтобы сказать при свидетеле, что у него остается лишь одна вещь, что имеется лишь один способ построить мир у себя на глазах и что это — любовь. Он достал из кармана трубку — он никогда ее не курил — и неопределенно взмахнул ею в воздухе…
— Мне хотелось бы знать, этот юноша.
— Готов ли он тоже выращивать орхидеи?
Ла Марн встал, надел шляпу. Он разглядывал Гарантье с абсолютно новым чувством, как если бы он изнасиловал старую бабушку, вытер, положим, руки о шторы и выпил на кухне молоко котенка.
— Вы бы мне очень помогли, — сказал Гарантье.
Ла Марн рыгнул.
— Через неделю он отправляется в Корею. Ему дают группу людей. Он из тех, кто верит, что, когда идеи плохо себя ведут, их достаточно наказать. Никогда не изменится, ну вы понимаете. Не то что мы, да? Ничему не научился и ничего не забыл. Ладно, враки все это, до скорого.
— Враки, — машинально пробормотал Гарантье. — Я хочу сказать…
Но Ла Марн уже вышел — уверенный, что не ударил в грязь лицом.
II
Проснувшись, они обнаружили, что их комната залита солнцем, заполнена запахами, голосами и красками: детский смех, голубизна неба, аромат мимозы, цокот копыт мулов под окном, оперные арии проходящих мимо ослов — день уже наступил и напоминал рог изобилия; они почувствовали себя несколько потерявшимися в толпе, прижались друг к другу и тут же снова уснули, чтобы вновь обрести друг друга. Ближе к полудню они снова проснулись; он пошел на кухню за виноградом, а Энн в это время твердила ему, что на дворе отличная погода и что надо вставать, насладиться солнцем, нельзя оставаться в постели в такую погоду, но, когда он вернулся, они совершенно забыли про то, что можно и чего нельзя, и занялись главным: превращением мира в куда более счастливое место. Затем они еще какое-то время лежали, поедая виноград и разглядывая белые стены — стены он никогда ничем не занимал — вещей было мало, мебели почти вообще никакой, он всегда ждал любви и рассчитывал, что она поможет ему обставить дом. От окна до них долетал легкий мистраль, и Энн натянула покрывало до самого носа: этот маленький носик неодолимо искушал Ренье, как некоторые острые вещи, к примеру, кошачьи ушки или хвосты фокстерьеров; он осторожно прикрыл его ладонью, слегка водя ею, чтобы почувствовать, как живет и шевелится под его рукой этот острый кончик, а она закрыла глаза и терпеливо ждала, когда он кончит справлять этот детский ритуал, чтобы вздохнуть. Она улыбалась под его ладонью и испытывала то ощущение триумфа, которое бывает, когда вам наконец-то что-то удалось. К нему, однако, примешивалось совсем легкое чувство вины, принимавшее форму вызывающей гримаски, — это сказывалась ее англосаксонская кровь, а также полученное ею воспитание, как бы подразумевавшее, что счастье — это неприлично. Она чувствовала себя победительницей и нисколько не тревожилась о будущем, как те, кому наконец-то удалось показать лучшее, на что они способны. Однако первое, что он ей сказал с момента встречи, было то, что через десять дней он отправляется в Корею, и он сказал ей это сразу, как только они вышли из кафе, — так честный человек признается, что уже женат. Но в ту минуту это показалось малозначительным — столь же не стоящим внимания, как если бы он оказался женат. Его отъезд был еще чем-то далеким — десять дней, — относящимся к очень далекому будущему. Будущее же представлялось ей как история, не имеющая завтрашнего дня, этакая непредусмотрительность, способ растранжирить свое добро. Это была кричащая и вызывающая роскошь другого времени, прошедшей эпохи, когда люди делали сбережения, рассчитывали отложить счастье на потом, жили при таком изобилии и в такой безопасности, что могли позволить себе подумать о завтрашнем дне. Начиная с малых лет, с тех пор как она впервые прочла «Стрекозу и муравья», ее всегда поражало то, что, хотя с момента написания этой басни прошло много времени, стрекозы всё поют. Они в общем-то давали муравьям ответ, исполненный мужества и достоинства: они продолжали петь. Этот факт сразу же показался Энн очень важным и тем более значимым, что взрослые скромно обходили его молчанием. Стрекозы продолжали петь, и именно в этом заключалась истинная мораль этой басни. Она уже не была ребенком, но никогда не забывала о великодушном уроке стрекоз и сегодня еще верила в него. Она в достаточной мере принадлежала своему времени, чтобы не думать о будущем: думать исключительно о настоящем — вот единственно разумный способ быть предусмотрительной. Она верила в это без всякой горечи, и, возможно, не было еще эпохи большего достоинства. А если он и вправду уедет через неделю, он вернется, вот и все: она верила в связь вещей, в некую логику бытия, и встреча, которая у нее наконец только что произошла, еще больше убеждала ее в том доверии, с которым она всегда относилась к ясности. К тому же она была слишком женственной, чтобы не уметь ловить момент. Лишь однажды она сказала с упреком: «Всякий раз, когда ты на меня смотришь, ты как бы запасаешься наперед». И в то же время она любила этот внимательный, чуть грустный взгляд, который заучивал ее наизусть.