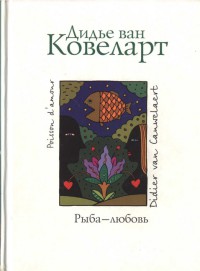Книга Чужая шкура - Дидье ван Ковелер
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Поскольку лауреат к тому же имеет право голосовать на следующих выборах, она полагала, что обязана читать все новинки, и как только подавали закуски, ставить нас в известность о своих предпочтениях и неприятиях. Оливье с трудом подавлял зевоту. Шендорфер[25]скрежетал зубами, воткнув вилку с ножом в остывающую телятину. В довершение всего она была вегетарианкой, пила «пепси-лайт» и посыпала свою морковку ростками пшеницы, которые всегда держала при себе во флаконе из-под сахарозаменителя. Ферньо, наш секретарь, слишком ценил плотские радости, чтобы позволить кому-нибудь портить себе аппетит, и вообще предпочел смыться.
Надо признать: неприятности начались уже с момента награждения. После бурных дискуссий в гостиной Марии-Луизы мы, дабы поддержать командный дух, обычно изображаем на лицах полное единодушие, пока опускается ширма, отделяющая нас от прессы, которая ждет в соседнем зале. Когда перегородка целиком уходит в пол, наш секретарь выступает вперед и называет имя счастливого избранника. Но в этот раз напряженную тишину прорезал скрежет, за ним последовал глухой треск, и перегородка застряла в полуметре над полом. Пропало все величие момента: Ферньо пришлось перешагнуть через барьер, прежде чем возвестить страшное — на сей раз приз «Интералье» присужден женщине, в восьмой раз за всю историю с 1930 года.
Выпив коктейли под стук молотка и вой дрели, журналисты разошлись, и мы сели обедать с той, кого собратья ехидно окрестили моей «кобылкой». Издатель, конечно же, просветил ее насчет порядка нашей церемонии и поведал о том, что за обедом мы просим спеть наших лауреатов, так вот, она вдруг вскочила во время десерта, без всякого приглашения простерла длань над тарелкой и запела низким голосом «Черного орла» Барбары. И это были еще цветочки. У нашей премии, как и у британской Конституции, нет основного документа со сводом законов, но есть обычай каждому платить за себя, поскольку никто не спонсирует наши застолья. В этом году элементарная галантность обязала нас попрать устои и по очереди платить за эту зануду, которая всякий раз протестовала, размахивая своей кредиткой: «Нет-нет, я не согласна!» Я ловил на себе разъяренные взгляды коллег и опускал глаза, вновь и вновь сожалея о том, что так высоко оценил ее книгу.
Сегодня, сочувствуя моему горю, все интересуются, как у нее дела, делают ей комплименты, мол, выглядит она замечательно, и костюм так ей идет. Садясь за стол, она наклоняется к Гимару и сообщает ему на всякий случай, что у меня умерла жена. Великий Поль бросает на меня столь красноречивый взгляд, что мне хочется провалиться сквозь землю. Все они надеются, что будущей осенью я во искупление грехов вообще воздержусь от голосования.
Хоть мне и отведена сегодня роль безутешного вдовца, порой я еле удерживаюсь от смеха, представляя тайную жизнь всех собравшихся за этим столом. Все они люди известные, на виду, и скрывают, как могут, свои печали и запретные радости. Их судят по тому, чего они добились в жизни, какое влияние имеют, чем прославились или в чем потерпели неудачу, что-то им приписывают, что-то они про себя сочиняют сами. Некоторые из них вызывают у меня восхищение, за другими просто интересно наблюдать, кому-то из них я раньше завидовал. Но даже те, про которых я вроде бы знаю все на свете, и они, уверен, могли бы меня удивить, и у них есть свои тайные страстишки, которые они маскируют обычным поведением, ни на миг не переставая играть. Впрочем, и они удивились бы, узнав о чем я думаю, сдирая шкурку со своей порции утки. Да, если бы они знали, что уже дней десять сердце мое учащенно бьется при одном только щелчке электросчетчика в пустой квартире. Мертвая хватка прошлого слабеет от бургундского, от знакомой компании, от дружеских голосов, и мне кажется, что Доминик просто уехала в турне, и я представляю себе, как она вернется, и наслаждаюсь недолгим одиночеством.
Когда нам подали сыр и мы заговорили о литературных новинках, о том, что нам запало в душу, а что вызвало протест, я принялся восхвалять никому неизвестного престарелого писателя, чья книга вышла в издательстве «Жюльяр» и показалась мне забавной. Я все-таки не решился опубликовать о ней рецензию в газете, опасаясь, как бы новые хозяева «Эдисьон Романтис» не увязали мои дифирамбы с тем письмом, которое они переслали Ришару Глену. Скептическое выражение на лицах моих коллег распаляет меня еще сильнее, и я напираю на здоровое раблезианство романа. Наша дама возмущенно машет чайной ложкой и кричит, что книга написана просто вульгарно. Лицо ее соседа озаряется широкой улыбкой, он твердо объявляет, что книга бесподобна, и за столом поднимается волна единодушного одобрения.
Пусть себе забавляются.
Подобно тем, кто на работе жаждет поскорее уйти домой, я отныне, читая в кресле или строча свои статьи на кухне, мечтал поскорее оказаться в студии, где царит тишина, где никто меня не достанет, где даже телефона нет. Я подсматривал в освещенную пустоту, оставленную в квартире напротив. Я сравнивал себя с Сократом из аристофановых «Облаков», когда он решил жить вне дома, в корзинке, подвешенной в воздухе, боясь поддаться земной силе, ибо она «притягивает влагу размышления. Не то же ли случается с капустою?» Я не знал, к чему приведет это бесцельное созерцание в доме, который потихоньку становится моей второй резиденцией. Я бродил по магазинам «Абита», «Касторама», «Конфорама», изучал обивку, сравнивал расцветки. Или расхаживал по блошиным рынкам, покупая по случаю то кресло-качалку с продавленным сиденьем, то вазу в виде фигуры Мерилин Монро, то годеновскую печь с открытой топкой, то зеркало в тростниковой раме, то помятую железную кофеварку, то копию самолета «Дух Сент-Луиса»[26], — все это я воспринимал как аксессуары для жившего там когда-то молодого человека, части декорации, постепенно становящиеся произведениями искусства. Я воплощал свой замысел. Хотя бы в интерьере.
Как режиссер до премьеры скрывает от посторонних глаз свою работу, я тоже старался все делать сам, не прибегая к услугам мастеров. Три ночи я перекрашивал стены. Обрезки клетчатого ковролина пришлось складывать, словно пазл. Клей немного пах пластилином. В Барбе[27]нашлась старая колониальная кровать, у которой все время отваливалась палисандровая спинка, с москитной сеткой «той эпохи», — на этой кровати я вполне мог спать ребенком, заниматься любовью, даже писать по ночам… Кроватная сетка и волосяной матрас до сих пор хранили аромат воска с еле ощутимой примесью сандала, влажной штукатурки и керосиновой лампы.
Попадая на улицу Лепик, я не бросался к почтовому ящику, все равно там лежали одни рекламные проспекты, а взлетал на два этажа, мне не терпелось снова вдохнуть эти запахи неизвестного происхождения — я смешал их и создал мне самому неведомую историю квартиры.
Толкнув дверь, я зажмуривался, делал глубокий вдох, мне сразу представлялись разные картины, и я поскорей открывал глаза, чтобы насладиться своим удивлением.