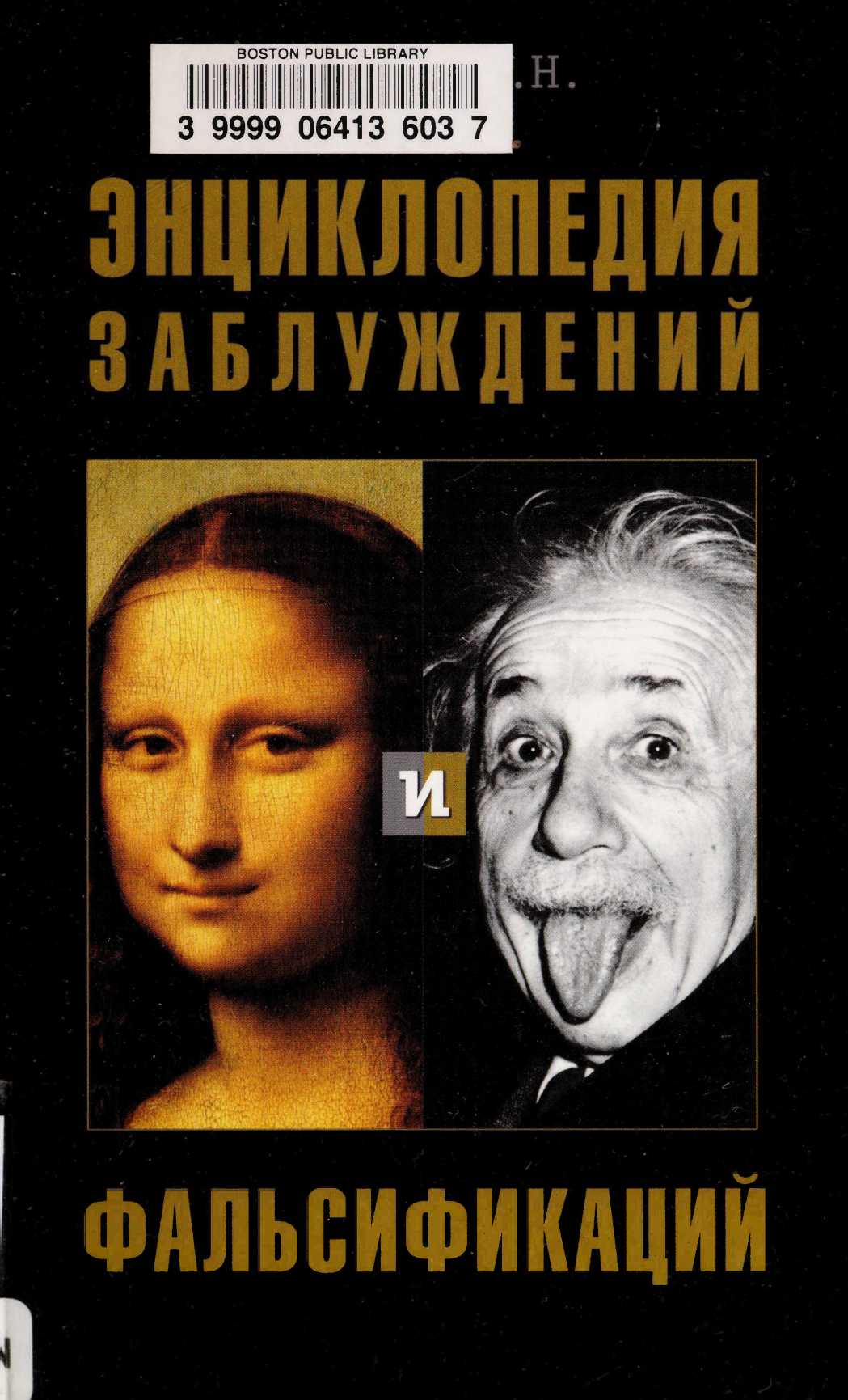Книга О БОРИСЕ ПАСТЕРНАКЕ. Воспоминания и мысли - Николай Николаевич Вильмонт
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Видимо, экзаменующийся все же кое-что запомнил из статейки Владимира Соловьева в Энциклопедии. (Пастернак очень ценил его краткие, с исчерпывающей ясностью написанные энциклопедические статьи.)
И — второй курьез. Гуляя по Пречистенскому бульвару накануне экзамена по русской истории, Пастернак купил шоколадку. На обертке был изображен Шаляпин в роли Бориса Годунова. На экзамене ему выпал билет «Смутное время». Ночью он перечитал все, относящееся к этому разделу отечественной истории, вполне уверен-{-107-} ный, что шоколадка с Шаляпиным досталась ему не случайно.
Как верный друг Бориса Леонидовича, Локс любил не только его, но и его семью: брата Шуру, гимназисток-сестер, его родителей. Верность была неотъемлемой чертой Константина Григорьевича. Благодаря Локсу я несколько проник во взаимные отношения членов этого мне хоть и незнакомого, но близкого по дружбе с Борисом Леонидовичем семейства. Шуру Константин Григорьевич любил просто как младшего брата Бориса и отчасти своего младшего брата, ценя в нем свойство души, которое было и его свойством, — безоговорочную порядочность. О девочках ничего не говорил, а только ласкательно произносил их имена: Лида! Женя! — с какой-то нежностью в голосе. Об обстановке в квартире Пастернаков отзывался как о «безличной, предполагавшей, очевидно, другую внутреннюю содержательность». О жене художника — наверно, очень точно, но уж слишком эскизно — сказал, что она сидела за столом и «рассеянно» разливала чай. Она была замечательной пианисткой; от нее музыкальность передалась и ее сыну. Больше всего «внутреннего, духовного содержания», как он выразился, было в Леониде Осиповиче, этом «внешне суровом, иногда, казалось, даже черством человеке». Отзываясь о нем, Локс любил вспоминать, как тот показал ему и всем, кто был при этом, «убеждающий пример искусства». Семья Пастернаков жила в снятом на лето большом помещичьем доме со всеми приятностями усадебного быта — прудом, парком, несколькими десятинами леса, службами и т. д. (хозяева жили в другом имении). Шура (Александр Леонидович) думал поступать в Училище живописи и ваяния и набрасывался на всех приезжих с просьбой дать с себя нарисовать портрет. Этой участи подвергся и Локс. Портрет получился неплохой, но это все-таки не был Локс. Леонид Осипович молча взял из рук сына карандаш и четырьмя {-108-} штрихами, точно выбранными из бессчетного числа возможных, превратил не-Локса в Локса. Борис Леонидович, желая порадовать отца (он был почтительным сыном), воскликнул:
— Это апеллесова черта в действии!
Отец посмотрел на него насмешливо. Любя всю семью Пастернаков со стоической верностью, Константин Григорьевич был достаточно трезв, чтобы понять, что «Боре в семье тяжело». Он был привязан к своим близким, но предвидел, что ему неизбежно придется их огорчать. Его в семье уже считали музыкантом, композитором; его горячо одобрил Скрябин, а он изменил Музыке. Он увлекся философией, был лестно для родителей замечен Когеном, но вот стал отходить и от нее. Поэзия же, его стихи вызывали сомнение не только у отца, но и у самого поэта.
В чем же его призвание? Он тянулся к поэзии вопреки своим сомнениям. Она его влекла в свой «бурелом и хаос». Но когда однажды при Локсе Леонид Осипович, почитатель и друг Толстого, заговорил о современной литературе, насмешливо посматривая на сына, а Шура благодушно смеялся острым шуткам отца, прямо метившим в поэзию старшего брата, Борис вспыхнул и вдруг побледнел. Но заметил это только Локс, а не его близкие. Не потому ли, по сдаче государственных экзаменов, Борис Леонидович поселился отдельно от семьи в крохотной комнатке в Лебяжьем переулке.
Словом, из всего сказанного видно, что Локс не только не был плохим рассказчиком, а напротив — отменнейшим и только из русской интеллигентской застенчивости никак не решался придать своим отрывочным замечаниям должную форму. Позднее он написал замечательную книгу «Повесть об одном десятилетии (1907—1917 годы)». Там и злость его и доброта встали на свое место. Она осталась ненапечатанной. {-109-}
* * *
Около года Борис Леонидович блуждал по Германии. Жил в Берлине, побывал в Мюнхене, Веймаре и Марбурге. Изредка писал мне письма и открытки, все больше грустные. (Почти все они затерялись.) В одном из последних писем, к счастью, сохранившемся, имеются такие строки: «Вообразите, что вестями и размышлениями перекинулся я с Вами дважды, и что в первый раз я описал Вам, как, не могши нарадоваться на Ваше первое письмо и на вложение [27] , я прочел их Е. В., делясь с нею, как своею кровной радостью, впечатлением от того и другого. Это в первом письме. А во втором, во втором — рассказал Вам об одном эпизоде, когда в результате длинного ряда «гражданских» свар и потасовок, без которых эмиграции, очевидно, не жизнь, я, по всеми молчаливо прощенной мне детскости и жизненной незначительности, этою стихией пощаженный и оставленный в стороне, был внезапно ею замечен, потревожен и воззван к деятельности. Еле-еле отделался, ценою ухода в одиночество, уже полное и, боюсь, окончательное. Это ускорит мой приезд. Второе воображаемое письмо печально в той же мере, в какой первое, о Вас — радостно».
Но новый, 1923, год был все же встречен в Берлине и не в полном одиночестве. Не знаю, где происходила встреча, но на ней присутствовали Роман Якобсон, Богатырев, издатель Гржебин, кажется, Андрей Белый с новой женою, кое-кто из «сменовеховцев», выпускавших просоветскую газету «Накануне», помнится, даже Маяковский, возможно, и Эренбург. За точность показания не ручаюсь. Полное одиночество, видимо, все же не наступило… Но весной (а может быть, и раньше) 1923 года Пастернаки были уже в Москве. Борис Леонидович привез всего лишь несколько стихотворений. Из них только одно первоклассное — «Отплытие»: {-110-}
Слышен лепет соли каплющей.
Гул колес едва показан.
Тихо взявши гавань за плечи,
Мы отходим за пакгаузы.
Плеск, и плеск, и плеск без отзыва.
Разбегаясь со стенаньем,
Вспыхивает бледно-розовая
Моря ширь берестяная.
Треск и хруст скелетов раковых,
И шипит, горя, береста.
Ширь растет, и море вздрагивает
От ее прироста.
Берега уходят ельничком, —
Он невзрачен и тщедушен.
Небо [28] , сумрачно бездельничая,
Смотрит сверху на идущих.
*
С моря еще по морошку
Ходит и ходит лесками,
Грохнув и борт огороша,
Ширящееся плесканье.
Виден еще, еще виден
Берег,