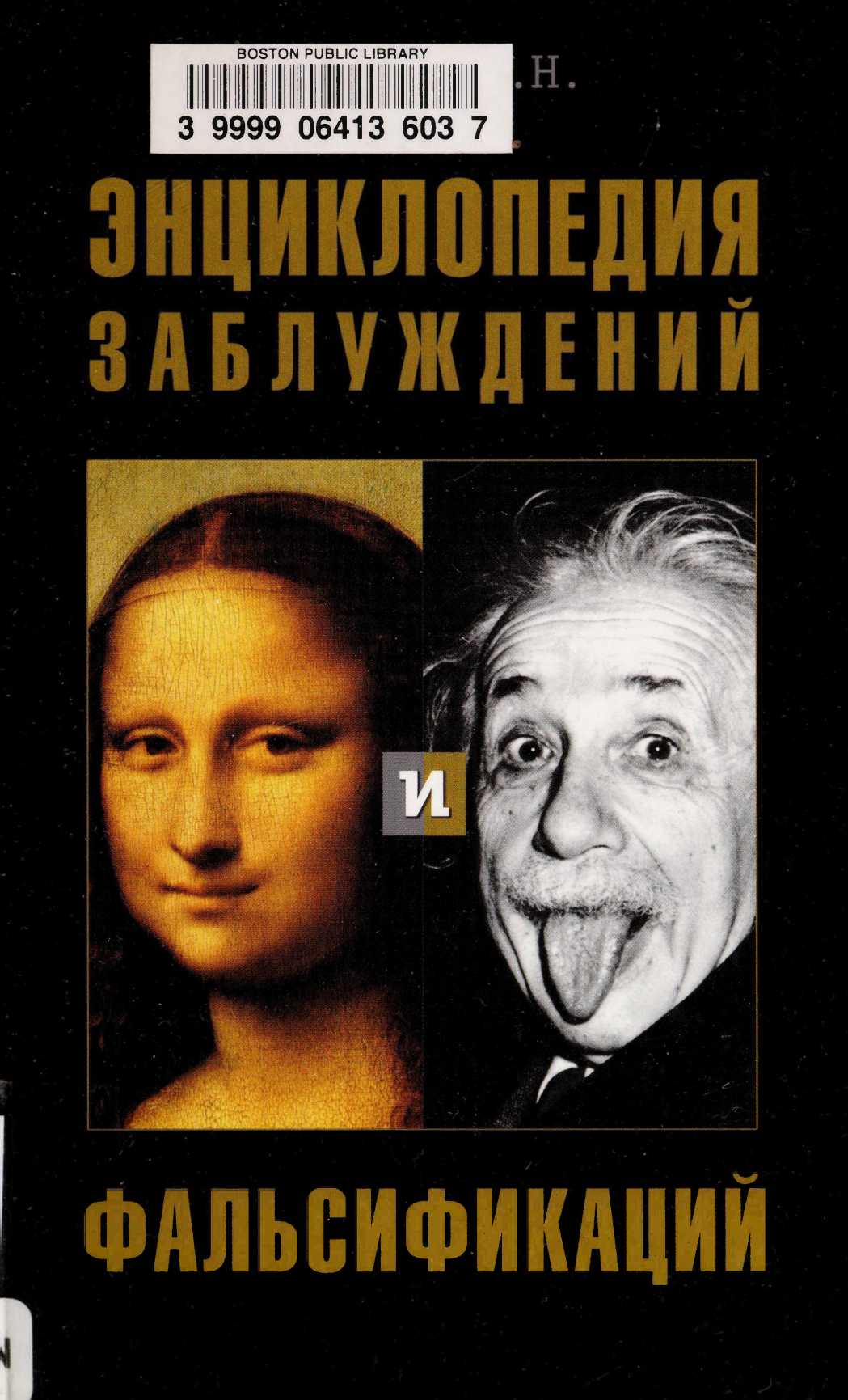Книга О БОРИСЕ ПАСТЕРНАКЕ. Воспоминания и мысли - Николай Николаевич Вильмонт
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
«Да, да! Я вас понимаю. Может быть, если б я услышал такие стихи несколько лет тому назад, я бы сам сказал что-то в этом роде, но… — Тут он окончатель но сбился, стараясь в философских терминах, русских, немецких и древнегреческих, сказать нечто в защиту таким стихам, вернее «чему-то, что я хотел сделать, но, разумеется, не сумел сделать», и т. д. После этого он убежал».
«Ну вот! Вы его и вспугнули!»
«Все эти новейшие кривляния глубоко чужды мне, Вера Оскаровна», — заявил Б. А. Садовской, чувствуя себя хранителем священного огня. «Чего искать, — говаривал он. — Уже все найдено. В стране, где были Пушкин и Фет, раз и навсегда установлено, что́ такое поэзия».
— Я ничем не мог помочь Боре, — продолжал Локс. — Пока я понял только одно: перед нами подлинное, ни на что и ни на кого не похожее дарование. Но тогда (не теперь, когда он уже столько сделал) дороже его стихов был он сам. Это означало, что его духовный мир еще только становился, предугадывался. Я понял и его манеру говорить. Это было непрекращающееся творчество, еще не отлившееся в форму и потому столь же гениальное, сколь часто (даже чаще!) непонятное. По той же причине для него — вплоть до «Сестры моей жизни» — писание стихов было не только счастьем, но и трагедией. Только в «Сестре моей жизни» он мог хладнокровно, сравнительно с ранними стихами, сказать уже как бы со стороны:
Любимая — жуть! Когда любит поэт,
Влюбляется бог неприкаянный.
И хаос опять выползает на свет,
Как во времена ископаемых. {-104-}
Глаза ему тонны туманов слезят.
Он застлан. Он кажется мамонтом.
И так далее… Но в раннюю пору слова лезли откуда-то из темного хаоса первичного. Часто он и сам не понимал их значения и лепил строку за строкою в каком-то отчаянном опьянении — жизнью, миром, самим собой. Мучение заключалось в необходимости выразить себя не в границах установленных смыслов, а помимо их и вопреки им. Но преодолевать то, что сложилось в человеческом сознании веками, особенно в эпоху рационализма, было трудно, если не невозможно. Отсюда и его «пан-метафоризм», как вы изволили выразиться на вашем благовоспитанном греко-немецком философском языке, очень умно и мило. Кхе, кхе!
NB! Здесь я должен сказать, что уже однажды мне подпустили такую шпильку. И не кто иной, как Борис Леонидович. Он сказал после того, как я бегло перевел одно его запутанное, так им и не досказанное рассуждение на опрятный и точный язык философской эстетики, чем он был удивлен и даже несколько задет:
«Про вас можно сказать то, что Коген сказал о Шеллинге: «Он говорил то, о чем Фихте еще только думал ». Вы прекрасно расшифровали мою сумятицу». Это могло звучать как комплимент, если бы я не знал, как несправедливо, презрительно-высокомерно отзывался Коген о Шеллинге.
Но Пастернак любил мою трезвость. Это я тоже знал. Видимо, потребность поэта в непоэте — более общий родовой признак жизни всякого поэта (не только роман тика), чем Пастернаку это казалось. Он и сам чаще говорил со мной трезво. Иногда я догадывался, что он (в начале дружбы особенно) даже готовился к разго вору со мной, как и я, случалось, к разговору с ним. Это меня, конечно, трогало, но и чуть-чуть огорчало. Глупо, конечно, но я был тогда еще двадцатилетним мальчишкой с ложным самолюбием. Последнее вполне{-105-} оправдывало его надпись на книге «С любовью, с юмором и — почти по-отечески». Я должен был бы радоваться тому, что Пастернак не вел со мной на меня нерассчитанного монолога и что наши беседы все же были диалогами, а не пародией на пушкинское «глухой глухого звал на суд судьи глухого», как то фатально получалось у него с Эренбургом. С людьми типа Буданцева — хорошего мало — он и вовсе не пускался в серьезные разговоры, а просто как-то загадочно чудил, чем доставлял им (и себе) немалое удовольствие. Так он почти всегда говорил с женщинами или с Буданцевым, с Фадеевым, почему они считали, что у него есть «что-то от Гейне».
— Таким же непрерывным творчеством были и выступления Бори на философских семинарах, — продолжал Локс. — Где его было понять профессору Челпанову с его «экспериментальной психологией». Помню, перед отъездом к Когену в Марбург Борис счел нужным (это ему, наверное, внушил Леонид Осипович или мама) зайти к Челпанову. Он прибежал от него весь взъерошенный. «Вы понимаете, Костя, — кричал о н. — Челпанов не сказал мне ни слова, но я чувствовал, что этот человек не имеет никакого отношения к философии». Коген его понял и даже предложил ему остаться в Марбурге с перспективой получить доцентуру в Германии. Бог спас его от такой напасти. Уже потому, что ему недоставало бы стихии русского языка, которым он опьянялся. Но не только Коген его понимал, охотно слушал его и профессор Грушка, читавший нам о Лукреции с поразительным знанием материала и с большим вкусом. По парадоксальному мнению Грушки, Лукреций излагал философию счастья — эпикурейство — как трагическую проблему. Борис слушал его тоже с каким-то выражением трагического счастья.
Потом Локс заговорил о государственных экзаменах, которые Борис Леонидович называл «экзальтацией не-{-106-} досуга». К этому выражению прибегает и герой его (неоконченной) «Повести», написанной уже в конце 20-х годов, — Сережа.
Запомнились из длинной, только такому «старому студенту», как Локс, интересной, истории этих экзаменов два забавных случая с Борисом Леонидовичем. В программу входила и так называемая «патристическая» («святоотческая») философия и, в частности, богословское учение Тертулиана. Я-то его отлично знал из книги (тогда еще рукописной) моего бывшего гимназического учителя (в 1922 году профессора) Петра Федоровича Преображенского, ученика историка Виппера, — «Тертулиан и Рим». Она мне была им подарена с надписью «любимому ученику». Но Локс и Борис Пастернак почти не знали патриcтики.
— Боря, — со страхом спросил Локс, — что вы будете делать, если вас спросят о Тертулиане?
— Я скажу: «Credo quia absurdum», — смеясь, ответил он, — и что-нибудь навру.
Через минут восемь он уже говорил о Тертулиане и произнес обещанное: «Credo quia absurdum».
— …est! — поправил его скрипучим голосом сидевший рядом с экзаменатором, профессором Лопатиным, ныне покойный профессор Соболевский, недобравший всего несколько месяцев