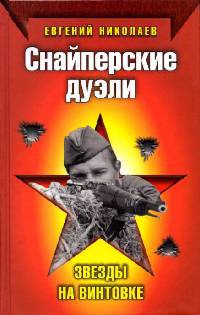Книга Товарищ пехота - Виталий Сергеевич Василевский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В воскресенье Романцова назначили в суточный наряд. Он был рад этому. Что бы он стал делать, получив увольнительную в город? Пошел бы в Дом культуры? Стыдно! Стыдно и невозможно, и она никогда не простит его.
Вечером в караульное помещение вошел сержант Никулин. Прерывисто забилось сердце Романцова, когда он принял из его рук записку.
«Знаменитый снайпер! Полагаю, что Вы сегодня явитесь в Дом культуры. Не под арестом ли Вы? Право же, Ваш прошлогодний выстрел в мину куда благороднее и умнее нынешних ночных похождений. К счастью, я медик, изучала психологию и по теме «Бессознательные поступки» получила пятерку.
— Где же она? — испуганно спросил Романцов.
— Ушла! Я сказал, что ты в наряде!
— Правильно! Действительно я в наряде!
Через минуту, прыгая по ступенькам, он мчался вниз. Ударом сапога он распахнул дверь. Катя медленно уходила по проспекту к трамвайной линии.
«Я действительно в наряде».
Сейчас Катя завернет за недостроенный дом, стена которого разворочена немецким снарядом. Никогда больше он не увидит ее. Ему стало так страшно, так тоскливо, что он опрометью побежал за ней.
— Катя!
В бледно-голубой кофточке с синим галстуком, с непокрытой головою, стояла она перед ним. У нее был такой неприступный вид, что Романцов растерялся.
— Я зашла узнать о состоянии вашего носа, — отчеканила она. — А вы, наверное, подумали бог знает что? С радостью вижу, что опухоль прошла. Ну, вам пора на дежурство, мне — на трамвай.
Романцов даже не смог сказать: «Простите меня». Он умоляюще смотрел на Катю, что-то бормотал, неловко одергивая гимнастерку.
И все переменилось. Внезапно покраснев, Катя быстро взглянула на асфальт, потом на Романцова, потом снова на тротуар и, горько усмехнувшись, сказала:
— А ведь все могло быть по-другому! Совсем по-другому!..
— Катя! Если можно, не уходите, — прошептал он. — Может быть, я не такой уж плохой! Я не могу это объяснить!.. — Он хотел сказать, что тогда, ночью, его толкнула к Кате какая-то страшная сила, что он презирает себя за то, что поддался этой силе, но вместо этого просяще повторил: — Не уходите!..
И Катя поняла его. Она поняла не потому, что изучала психологию, и не потому, что ее убедили его слова, а потому, что она увидела в его глазах слезы.
Стараясь не смотреть на него и как-то странно подняв левую руку, Катя сказала:
— Ладно… Забудем об этом… Ну, я на трамвай! Вам ведь в караул! Может быть, придете в воскресенье…
— Я попрошу лейтенанта! — с отчаянием выпалил Романцов. — Он разрешит мне уйти! До ужина!..
Лейтенант разрешил.
Они пошли не к Неве, где, по мнению Романцова, Кате было бы холодно от ветра, а в сквер.
Разумеется, никакого ветра не было. По набережной гуляли курсанты, а Романцов почему-то не хотел, чтобы они увидели Катю.
Заборы вокруг сквера были сломаны на дрова еще в голодную зиму. Дорожки заросли травой. Кусты росли прямо из клумб, вкривь и вкось: садовника здесь не было уже два года. Но может быть, так хорошо и было в сквере лишь оттого, что деревья, кусты, трава, цветы буйствовали без присмотра, своевольничали, наслаждаясь своей силой и свежестью.
— У нас сегодня выходной! Курсанты ушли в город, — для чего-то сообщил Романцов.
— Мне бы только не опоздать на последний трамвай, — думая о чем-то другом, сказала Катя.
— А если обстрел? — тревожно спросил Романцов.
— Пешком дойду! Садитесь сюда…
Натянув на круглые колени юбку, Катя прислонилась к стволу тополя. Спокойно положила руки на траву, на горячую от дневного зноя землю.
Все в ней было чудесным: и нежно-голубая кофточка с короткими рукавами, и сильные, розовеющие сквозь ткань плечи, и открытая, ясная улыбка.
Катя и Романцов разговорились не сразу. Они говорили о разных — то серьезных, то незначительных — вещах. И хотя оба они ни единым словом не обмолвились о том, что случилось неделю назад, Романцов говорил лишь об одном и желал одного: убедить Катю, что больше это не повторится.
— А я думала, думала, да так и не поняла, зачем вы хотите быть офицером, — сказала Катя. — Ведь эта война последняя? Разгромят Гитлера, и больше войн не будет!
Тотчас добродушное выражение исчезло с лица Романцова. Без запинки он отчеканил:
— Пока существует капиталистическое общество, пока в мире есть хоть один капиталист или банкир, надо быть наготове! — И тут же спохватился: «Что я, доклад делаю, что ли?»
— Да, да, Катя, война скоро кончится… И вы отдохнете, забудете страдания! Но я буду в армии. Пусть армия стоит на границе!
Недостроенные дома Охтинского жилого массива обступили сквер, как башни древнего города. Чудом уцелевшее окно на пятом этаже одного из домов отражало в стекле последние лучи заходящего солнца.
Катя задумчиво следила взглядом за бабочкой, порхавшей с цветка на цветок.
— Вам скучно? — испугался Романцов.
— Я думаю: иногда встретишься с человеком — весело смеешься, а потом и вспомнить нечего. Пустяки какие-то… Надо говорить о самом важном для себя! Самое благородное в человеке — щедрость ума! Мой отец умел так говорить со мною. Как бы думал вслух!
— А кто ваш отец, Катя?
Ее отец, военный врач, был где-то на юге. Уже третий месяц Катя не получала писем. А мама и тетя Саня умерли в голодную зиму. Она тоже едва не умерла, она лежала в беспамятстве, когда унесли маму и тетю, и Катя не знает, где они похоронены. Брат Алешка, малыш, эвакуирован с детским домом.
Катя жила одна, училась на втором курсе медицинского института, весною работала на торфоразработках.
«И у нее горе», — подумал Романцов.
— Я на войне понял, что не всякая смерть страшна, — сказал Романцов. — Ужасно умереть бессмысленно, утонуть в реке или задохнуться ночью от угара.
— Вы были в Крыму? В Херсонесе я видела древние греческие могилы. На каменных плитах два слова: «Прохожий, радуйся».
— Чему?
— Ну как же вы не понимаете! Радуйся, что здесь похоронены герои. Радуйся, что ты жив. Замечательно, не правда ли?
Он мог говорить с Катей о самом: сокровенном, самом волнующем. Он рассказал ей о Курослепове, о березах, растущих на склоне оврага, и Тимуре Баймагомбетове.
— Мне было так плохо весной!.. Это прошло. Почти все прошло. Теперь я буду иным!
Катя не спросила: почему теперь?
— Ни-че-го, — твердо, уверенно сказал Романцов, — ничего! Я буду иным теперь! Меня мучает, что Иван Потапович умер… Он был благороднее меня. Он не бегал за фотографами! Не вырезал из газет свои портреты! Он ради войны отказался от всего: от