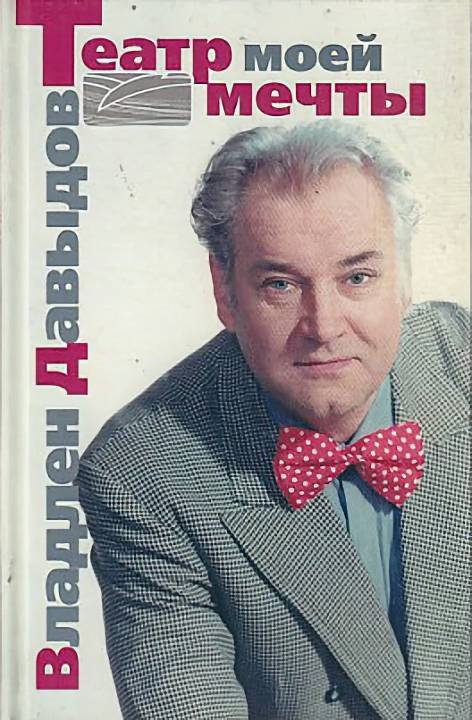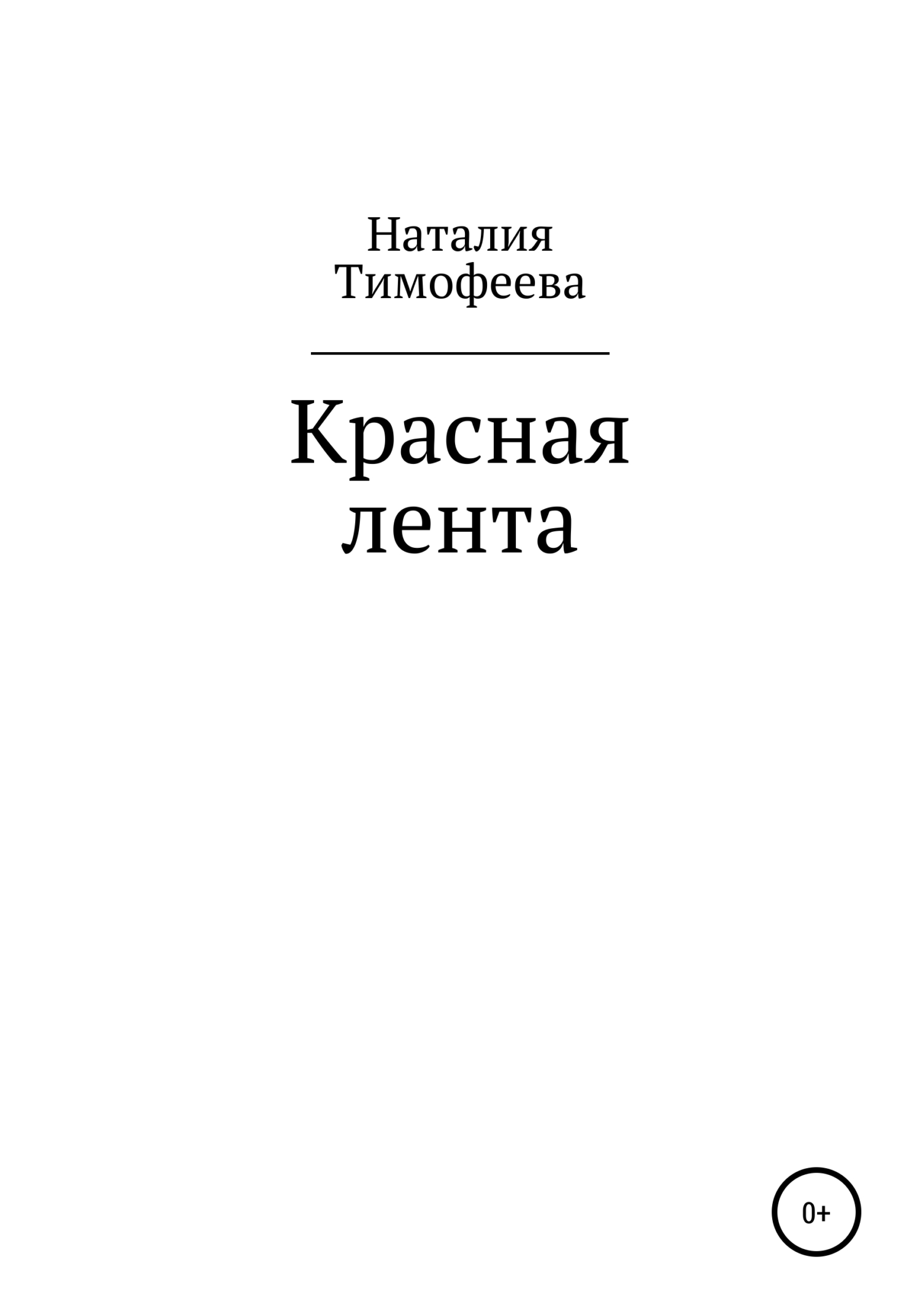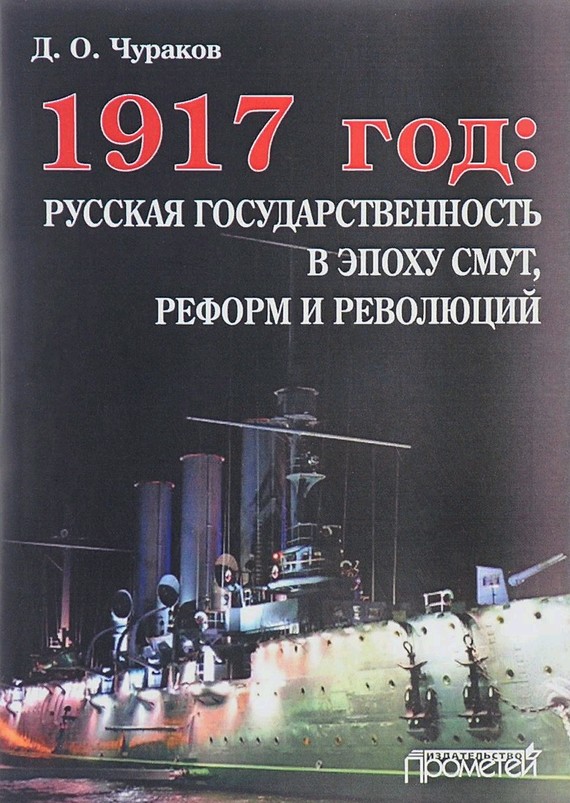Книга Серьезное и смешное - Алексей Григорьевич Алексеев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
ГЛАВА 7
«ГРОТЕСК» ПО-КИЕВСКИ
Все, что обещал мне Жарковский, все, чем прельщал, сбылось. Открыли мы сезон в прекрасном помещении. Рампы не было — во всю ширину сцены спускались в зал несколько ступенек, так что я все время был рядом со зрителем, ничто не отделяло меня от него. Как удобно было разговаривать!
Киевская дирекция действительно оказалась торовата — позволяла ставить спектакли, не жалея денег, и киевляне были действительно чудесной публикой: любили и ценили юмор; уже через месяц-другой они встречали артистов как старых любимцев.
Труппа состояла почти сплошь из молодежи, в самом деле талантливой. Из старших — артист «Кривого зеркала» Лев Фенин (позже он играл в Московском Камерном театре) и Любовь Болотина.
Любовь Болотина… Друг мой, Люба Болотина. Прекрасная актриса, красивая, умная. Любила ее публика. После этого сезона мы не встречались, но сохранилась у меня афиша ее бенефиса и ласковая память о ней. А когда через много лет меня пригласили в Ленинград на открытие Дворца искусств, я наутро поехал в Дом ветеранов сцены. Разговорился там со старыми актерами, и пошли воспоминания: кто, где, когда, с кем работал.
Спрашиваю, не слыхали ли про Болотину? Любовь? Жива ли? Не знают ли, где живет?..
— Как не знать! Живет у нас, во-он в том корпусе.
Пошел в тот корпус. Попадаю в маленькую мрачную кухню. У стола сидят разговаривают три староватых мужчины. У крана спиной ко мне стоит женщина.
— Нельзя ли попросить Любовь Болотину?
Женщина поворачивается ко мне лицом.
— Это я. Кто спрашивает?
Она! Такая же красивая.
— Здравствуй, Люба! Это я, Алеша!
— Какой Алеша?
Посмотрела в мою сторону, но не на меня, как-то мимо… Слепая!
— Люба! Помнишь, Киев, «Гротеск», Алексеев?..
Она подошла, побродила пальцами по моему лицу.
— Теперь вижу, ты. Такой же, как был… А-а…ле…ша…
Рыдает. Потом она проводила меня в свою комнату, и мы долго и радостно вспоминали артистов «Гротеска».
— А помнишь Аркашу Бойтлера? А Толю-художника?
О, этого я хорошо помнил, был у нас художник, очень молодой, очень талантливый, очень задиристый паренек. Говорил он с сильным украинским акцентом, не признавал никаких авторитетов и старшинства и, согласно тогдашней моде, увлекался формалистической живописью, правда, не слишком: этого ему не позволяла его украинская насмешливо-критическая натура. Через несколько лет он был уже главным художником «Кривого Джимми» в Москве.
В эти годы один сезон работал у нас питерский режиссер Николай Николаевич Евреинов, самовлюбленный и немножко рисующийся. И вот в работе над одной пьесой столкнулись эти два талантливых человека: накрахмаленный петербуржец и ироничный киевлянин. Не поняли друг друга или не хотели понять — разругались, причем ругались в разных стилях: один в отточенных фразах с французскими инкрустациями, другой — в «отборных» исконно русских с украинским акцентом. Премьера так и не состоялась.
Спустя много лет художник как-то приехал в Москву и пришел ко мне в гости — это был уже народный артист СССР Анатолий Галактионович Петрицкий.
Возвращаюсь к «Гротеску».
Строили мы спектакль по тому же принципу, что и в Петрограде: первое и третье отделения — концерт; второе отделение — пьеса, водевиль, современный или старинный, пародия, инсценированный рассказ. Профессиональных эстрадных артистов мы не приглашали; читали, пели, танцевали, рассказывали наши актеры. На весь сезон была приглашена только Юлия Бекефи, прекрасная характерная танцовщица Мариинского, ныне Ленинградского академического театра оперы и балета имени С. М. Кирова, представительница славной семьи танцоров и балетмейстеров.
Сорин видел в «Летучей мыши» в Москве пародию на провинциальный любительский концерт и раздобыл ее текст. Называлась она «Благотворительный концерт в Крутогорске». Роль крутогорского конферансье играл Балиев. Это было, как рассказывал Сорин, очень смешно: Балиев изображал нелепого, темпераментного парня, который волновался, суетился, все путал и был очень забавен.
Сорин настаивал, чтобы эту роль играл я, а я не хотел. Были на то свои соображения. Балиев начал профессионально конферировать года на два раньше меня, и я всегда втайне боялся малейшего сходства с ним в манере, в сценическом поведении, в характере юмора, чтобы никто не мог сказать: Алексеев работает «под Балиева». Правда, Балиева я никогда не видел, но знал, что и наша внешность, и юмор, и весь артистический комплекс были абсолютно несхожи, и тем не менее… самолюбие все время держало меня начеку. Играть после него казалось мне опасным: сыграешь хуже — будут говорить: «Так то ж Балиев, а то Алексеев»; сыграешь хорошо, скажут: «Да-а-а… но все-таки не то…»
И решил я (так как Сорин настаивал) сыграть, но не хуже и не лучше, а иначе. А раз уж играть, то ставить пьесу должен я сам.
Роль конферансье я разделил на две: сам я играл старого застенчивого провизора, которого крутогорская «общественность», иначе говоря дамы-благотворительницы, уговорила, как представителя местной интеллигенции, взять на себя ведение концерта. И ему неловко: солидный аптекарь — и вдруг в таком легкомысленном положении… Он выходит на сцену, здоровается, просит извинить, не он виноват.
— Дамы! Разве им откажешь?! Здравствуйте! — говорил он кому-то в партере. — Как одеколон? Хорош? А вы не хотели брать! О, и вы тут? Как ребеночек? Помогло слабительное? Здравствуйте, легче от пирамидона? Ну и слава богу! Здравствуйте, заходите завтра, получено патентованное средство от влажности рук…
Начав так благотворительный вечер, он в дальнейшем ведет программу. Но нужно же и за кулисами быть: выпускать артистов, устанавливать порядок, и вот для этой цели была придумана вторая роль — конферансье-помощник — это энтузиаст искусства гимназист Сенька. Роль эту, мальчишки лет четырнадцати, хлопотуна, гордого своим выступлением на сцене, играл молодой актер Аркадий Бойтлер. Физиономия у него была на радость зрителям: когда на его наивном, в общем некрасивом лице появлялась улыбка, нельзя было не улыбнуться, а когда он смеялся, это был Гуинплен, «человек, который смеется», и весь зал хохотал.
Разговаривал он на сцене не так уж хорошо, и я сделал его роль мимической. Перед каждым номером концерта он выбегал на сцену советоваться с «шефом», подходил ко мне и, убедительно жестикулируя, шептал на уход, спорил, доказывал. Я подавал реплики-вопросы вслух: «Ну и что? Зачем?» А он все беззвучно шептал, потом поворачивался к публике, на его курносом лице появлялась застенчивая извиняющаяся улыбка — и он становился любимцем всего зала.
Был еще один смешной персонаж в пьеске — аккомпаниаторша. Так как я изображал фармацевта, то и для нее придумал родственную профессию: она была акушеркой. Старая, близорукая, облезлая, она с трудом разбирала ноты, уткнувшись в них носом и теряя очки. И когда на сцене появлялся очередной артист, я всякий раз обращался к