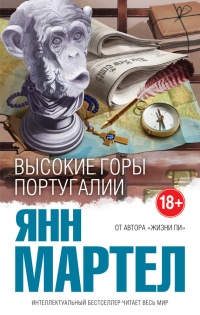Книга Солнцедар - Олег Дриманович
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Лебедевских сестричек штабное сердце не интересовало, поэтому Никиту они не замечали, дозволяя сидеть тихо в сторонке, наблюдать, как добывается цифра из видяевцев. А те страдальчески каруселили по кругу: барокамера, велотренажёр, беговая дорожка, — меняя скучные аттракционы, отжимающие бухгалтерию сердца то под нагрузкой, то в кислородном покое. С другой стороны, чего кобенятся, — искренне не понимал Растёбин, — тоже мне тяготы — давить педали, рассматривая фотообои с подмосковным лесом или глотать стопроцентный кислород. Здоровья ж для! Никита поглядывал на Катю, Катя, украдкой, — на Позгалёва, любуясь его зеленоглазой неотразимостью.
— Ну, что там мой насос пишет, небось, всё в сердечках? — заигрывал Позгалёв с хмурой заей, изучающей кардиоленту.
— Вы сколько сегодня приняли?
— Каплю и приняли.
— Вижу ту каплю. Следующий раз не пущу.
— Мне подходяще. А свидеться можем и в более симпатичном месте. Приходи во флигель, теперь там прописан.
Шпок, шпок, шпок — глумливо хихикали присоски.
— На дорожку! — отдавала команду Катерина.
— В смысле — на посошок?
— В смысле, на беговую!
— Так вот, толмач, — роняя первые капли пота и одышливо фыркая, шлёпал лапами по бегучему полотну подводник, — сначала они жгутуют тебя в пелёнки… уфф, потом детсад… потом пионерия. Дальше жгуты уже посерьёзней, упф… глазу невидимые, хрен заметишь, упфф… и хрен с них дёрнешься, фрр…
— Ты о чем? — за жгутами Никита не улавливал нити.
— В некотором роде… упфф… о ба-бах то-же! — взял не без помощи одышки восторженную ноту Ян. — Даже если ты им без надобности… уфф… они все равно тебя жгутуют… фэрр… для порядка и вообще… уфф… зачем нас было слать под пальмы, когда можно обвесить проводами, не выходя… упфф… из видяевского медбата? Там у нас в отдыхательном уголке… уфф…обои навроде этих… фэрр… только с кокосами на ветках. Или здесь мой мотор… упфф… вдруг размякнет и расскажет больше интересного? А я тебе скажу, упфф… чтоб напомнить: смотри, какой у наших жгутов… фэрр… километраж. Сбеги хоть в Антарктиду… упфф… хоть на Луну… уффф… а наши присоски…. фэрр… везде будут щупать твой насос!
— Ясно… хотя про баб всё равно не очень.
— А родина-мать… упфф….чем тебе не баба? Ядрёная, с торпедами, вон как у Катюхи. С которой, эх, вечная у меня безответка! Катюха, ты почему меня не любишь?!
— На всех вас одной не хватит.
— Во, Никитос! ффууу… что и требовалось доказать!
Проводки натягивались в пальчиках Катерины. Вновь шпокали присоски, слетая с позгалёвской груди и утаскивая с собой ворох добытых цифр. Разгорячённый, в потной испарине, нервно отшвыривая кистями мокрую духоту, будто освобождаясь от окаянных пут, тянущихся с самого Баренцева моря, Ян соскакивал с дорожки. Плюхался в кресло.
— Катерина, гони Мурзянова: весь кислород выжрет.
— На вас хватит. Десять минут у него еще, отдохните.
— В смысле, дерябнуть можно?
— Со слухом как? Тут не распивочная.
— Шучу, зая, шучу… Отдыхаем.
Как же его угораздило в подводный флот, где со жгутами такие напряги и неудобства? — решился поинтересоваться запьяневший с «Солнцедара» Никита. В ответ под хлопанье вафельного полотенца услышал историю о нахимовском детстве, подаренном горячо любимой матушкой, перепуганной буйным нравом сына с самых его пелёнок.
— Она и смекнула: если тюряга плачет, пусть лучше тюрягой будет прочный корпус.
Расслабленный физическими нагрузками, Позгалёв ударился в воспоминания не на шутку. За десять минут ему — о детстве, нахимовке, повторно — о матери, которая, будучи «зубнихой», имела даже не связи — доступ к начальнику Нахимовского училища прямее не придумаешь — через бормашину. Судьба сына устроилась ценой «пары пломб», к тому же, кто его в четырнадцать лет спрашивал?
А на первой морской практике под парусами — до форта Шанец и обратно, — захватило, сразу и сильно, особой страстью к морю, знакомой, в основном, подводникам. Когда в кайф не просто пощекотать килем гладь, а хочется чуток большего — взломать её грубо, по-мужски: обладать, так обладать.
А до нахимовки — недолгое детство в Запорожье. Быстрое, как днепровская водичка на порогах-перекатах, ослепительно-солнечное, испятнанное бликами нехитрого мальчишеского счастья. С набегами на хортицкие сады, с ловлей всего, что в днепровских водах плавает, с ночными кострами в степных ковылях и гарцеванием перед орущим паровозом — на спор.
— Так ты с югов? Нос, смотрю, оттуда, — «Солнцедар» совсем развязал Никитин язык.
— Это я к специальному лору сходил — первый бой, второй раунд. Лечит курносость на раз. Какие там юга. Со станции Мга — перрон под Ленинградом на сто домов. В Сечь нас отец привез. Папаша был гулевой — есть мне в кого, ну и загулял с какой-то казачкой. Я там шесть классов, прежде чем обратно с матерью в Ленинград.
И точно, — увидел Никита, — русацкий нос, перебитый не южной кровью, а чьим-то крепким кулаком.
— Мга… название странное.
— Мга пала, лист побила. Помрачение воздуха, сырой туман. А по мне так — самое солнечное место на земле! Ладно, давай, пока не видит.
— Может, потом?
— Давай, давай…
Ян ухватил бутылку, сделал глоток. Глаза то на шухере, то весело посматривают, как сестрички Алика раскупоривают: медали-присоски — долой и, лёгкого, под руки. И он плывёт в вершке от пола — невесомый, перекачанный кислородом, счастливый. Плывёт мимо Катерины, снаряжающей барокамеру для следующего погружения. Катя суетится, перекинув провода-снасти через плечо, наклоняется сочно и вдруг некстати, в тот самый момент, когда кадык Позгалёва заходится, что поплавок, в отчаянной винной поклёвке, поворачивает голову.
— Ну, всё! Галя, зови Лебедева!
Пока Галя бегает, они сидят притихшие, как напроказившие пацаны. Потом становится немного смешно за себя таких, и все трое, не сговариваясь, опять мусолят бутылку. Им уже до лампочки молнии Катерины, которая что-то гневно отписывает за столом, аж бумага под ручкой визжит.
Приходит Лебедев — руки важно за спину, овальный, как канцелярская скрепка. Слушает Катерину, соскальзывающую по ходу в служебный психоз. Сделав своему носу традиционную нежную саечку, коротко спрашивает сестру:
— Показатели снимаем?
— А толку? Датые ж!
— Не наша забота.
— А завтра они опять с бутылкой… и что?
— Зачем всё это? — кивает майор притворно-непонимающе на клубки проводов, тренажёры, — чтобы фиксировать? Вот и фиксируйте. Здоровье — их, пусть думают. Не наша забота.
Логично, не подкопаться: «не наша», «фиксируем»; и ресницы Катеринины хлопают уже не столь часто, а гневный румянец на щеках шустро остывает. Слушая эту «профессиональную» беседу, Позгалёв смотрит на Лебедева со знакомым осовевшим изумлением. Потом заступает усталая отстранённость, тоска. Ян нервно гладит свою лысину, тут же убирает руку, словно вспомнив, что ерошить там нечего. Вид у него какой-то резко сдавший, примороченный, будто в секунду догнало похмельное возмездие предыдущих неправедных дней. Рядом, в контраст — насосавшийся кислорода Мурзянов: свеж и благостен, что со сна младенец.