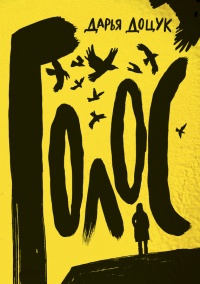Книга Фарфор - Юрий Каракур
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Да потерялись! – как будто отвечает ему Тамара. – Чернику держи!
Слава подхватывает корзину, и Тамара как в шкатулку входит, но оборачивается ко мне:
– Давай, Юрочка! Спокойной ночи! Мать, наверное, наплакалась, – говорит Тамара. – И сразу ложись отдыхай, завтра помоешься.
Я поднимаюсь, скрип-скрип, и в окне подъезда вижу, как в темноте из трубы котельной выкипает серый бесшумный пар. Мне делается грустно без Тамары, я вспоминаю, как мы переодевались в лесу, и по мне всюду расползаются швы. В молчащем подъезде слышно, как крутятся счётчики электричества в щитке, это мама плачет под включённой лампочкой или работает холодильник. Ещё чуть-чуть, и я спасусь, но пока я слушаю счётчики, смотрю в окно, Тамара укладывается на бархатной подкладочке, в хрупком деревянном доме по росту засыпает Тоня. Если вернуться туда, в лес за железной дорогой, то там сказано про сына Тони, про ремень, про Славино сердце и перелом Тамариного бедра. Но сейчас в лес не хочется, сейчас всё спокойно, июльская тёплая ночь, и завтра утром у всех нас будут блины с ягодами и со сметаной, этим белым словом всё заканчивается.
Мы с бабушкой сидим у Московского шоссе на бетонных плитах. Машины трясутся легко, грузовики тянут сложные громкие тяжести, мотоциклы мучаются в пыли, автобусы издеваются, медленно открывая двери: нет, не она! Мы устали ждать, жарко, пыльно, попе неудобно, но мы были бы рады ещё два часа просидеть, не дождаться и вернуться домой ни с чем – без тёти Лары. Ещё в мае тётя Лара из Москвы предупреждала в письмах: бог даст, если здоровье позволит, если буду жива, приеду в августе, повидаюсь с тобой, милая сестричка Галочка, и Танечка от меня отдохнёт. Но надежда ещё была. А вчера тётя Лара прислала категоричную телеграмму: приеду завтра автобусе встречайте три часа лара. Из этого мы поняли, что бог дал, не умерла, здоровье позволило. Телеграмму бабушка скомкала и бросила в мусор. Но перед сном полезла в ведро и долго копалась там: «Во сколько хоть она приезжает? В два или в три, я забыла». В три. Утром я окинул взглядом бабушкину квартиру, прощаясь на две недели. Бабушка варила щи в очках, сомневаясь во всём: «Даже не знаю, обжаривать ли лук, а то скажет ещё, что жирновато. Ей же всё жирновато». Бабушка прикрыла побыстрее крышкой, чтобы не смотреть и не переживать. «Укроп она не любит или петрушку? Хоть убей, не помню!» Пока мы шли к шоссе, казалось несправедливым и даже нечестным, что где-то в Москве Таня будет отдыхать от тёти Лары целых две недели.
Около четырёх приехал рейсовый автобус, особенно наглый, долго интриговал закрытыми дверями и даже, отвлекая, выпустил сначала какую-то толстуху в ярком платье с подсолнухами, и потом только – тётю Лару. Даже не верилось: что, уже приехала? Тётя Лара помахала нам рукой, но мы не спешили. Может быть, это не она, а какая-то другая седая женщина со стрижкой-каской машет рукой другим людям, не нам.
Но это была тётя Лара, и махала она нам. Она поставила дорожную сумку на землю и радостно ждала нас: шляпка, дамская сумочка через плечо, юбка в горох.
Мы поднялись и медленно пошли ей навстречу.
– Это что же, и сумку за неё нести, – тихо сказала бабушка и помахала Ларе в ответ, – приехала принцесса.
– Галочка, – улыбалась хорошим зубным протезом тётя Лара.
Тётя Лара была бабушкиной двоюродной сестрой (далёкий мёртвый дядя Федя из Бердянска). Когда-то давно тётя Лара жила во Владимире, в красном доме на улице Гагарина. Отец бывал там и запомнил мать тёти Лары – Веру Ильиничну, суровую учительницу русского языка и литературы – и большую, но однокомнатную квартиру с пианино, с солнечными лучами на полу (в них висела, должно быть, непременная пыль). Вера Ильинична занималась с отцом правописанием. Это было начало шестидесятых: гар-гор, зар-зор, бер-бир. Тётя Лара руководила цехом в «Автоприборе», на хорошем счету, на почётном посту, разведённая мать троих детей: Серёженька, Наташа, Таня. Потом им дали квартиру на проспекте Мира над ателье. Там было три комнаты, но кому они – эти комнаты? После переезда умерла Вера Ильинична, вскоре после неё заболел острым, режущим лейкозом Серёжа и тоже умер, бедненький, молодой, сфотографированный грустным. Наташа и Таня уехали учиться в Москву, поступили в МГУ. И вот кому они, эти комнаты? Тётя Лара вышла на пенсию и поехала в Москву к дочерям. В то время, когда я её помню, тётя Лара уже много лет жила в Москве и блестела высоко в небе над нашим дефицитом.
Преодолевая дефицит, мы были однажды у тёти Лары в гостях. Мне только исполнилось пять лет, меня взяли, чтобы предъявлять в магазине продавщицам: вот, две детские руки, давайте больше колбасы, сыру, конфет. И меня предъявляли: мы купили два килограмма птичьих конфет – «Ласточка» и «Буревестник», которые звали в высокий полёт (на жёлтом и на белом фоне), и у нас выросли собственные крылья за спиной; две больших палки ветчины в красной оболочке – сложить крестом и преклонить колено; два килограмма теснящихся податливых сосисок, которые бабушка приморозила перед отъездом, и они окрепли и затвердели. Из поездок по магазинам я помню угол какой-то улицы и необходимость перейти дорогу, остро пахнущую раковину входа в метро, ловкие турникеты с фокусом – кинул жетон и проскочил. Я не помню, были ли мы на Красной площади, видели ли хоть одну высотку, но маленькое, поднесённое к глазам запомнилось. Тётя Лара жила тогда в коммуналке на станции «Спортивной» – высокие потолки, высокие окна, высокая соседка со сложным характером. У соседки в ванной хранилась круглая баночка с блестящей крышечкой, которая ужасно мне понравилась, я даже не думал, что баночки могут быть настолько маленькими. Я открыл баночку, и она прекрасно пахла, и дно у баночки начиналось прямо вот сразу под крышечкой. Я поводил пальцем по дну, и оно вдруг продавилось. Я попытался всё вернуть и расправить дно, но стало ещё хуже. В итоге я задвинул баночку подальше на полку, она стояла там и тикала, а потом вдруг рванула, когда соседка захотела помазать веки новым кремом. Начался крик на кухне, бабушка увела меня гулять во двор. И отчего-то – будто промыли в проточной воде – помню поездку в троллейбусе, запотевающую близость стекла, выскочивший сквер с яблонями, на которых краснели яблоки, и то, как меня это поразило: висят и бери сколько хочешь. Мы шли по какому-то московскому скверу, тёплая осень, тётя Лара с бабушкой в ранних плащах. Мы уже всё купили, и у бабушки лёгкое закупившееся сердце. А я упрашиваю их: давайте пойдём и поищем сад с яблоками, я видел из окна своими глазами. Яблок, конечно, не нашли. Но до сих пор, хотя проступили уже вокруг меня московские жилы, до сих пор оборачиваюсь иногда: не этот ли сквер? не видно ли яблок? Спустя годы после поездки вскрылось: «Ты не помнишь, как она нас уложила вдвоём на раскладушку?» Я не помнил, а тётя Лара тогда сказала, что у неё очень удобная раскладушка. И мы с бабушкой легли вдвоём и повисли, как в мешке. А сама она легла на кровати и расхваливала ещё со своей перины эти старые пружины. Очень удобная раскладушка, Галочка! И как захрапит. Бабушка лежала со мной под боком, смотрела в потолок. Помню ли, как бабушкино сердце обиженно билось у моего уха? Нет, не помню, а оно билось. И перед отъездом не покормила даже: чай с баранкой, вода с нулём, в животе урчало от голода уже в Балашихе. Бабушка зареклась и больше не ездила к тёте Ларе. Да и сосиски быстро надоели, полгода ели их, откалывая отвёрткой и молотком от замороженных братьев.