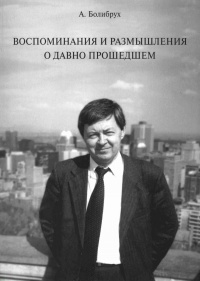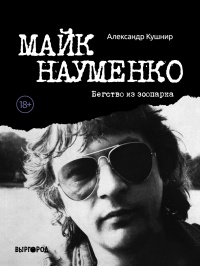Книга Я был власовцем - Леонид Самутин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Больных, поступавших просто с большой степенью истощения, мы кое-как спасали. Тепло, покой, паек, хоть и скудный, но доходил до больного полностью, еще и добавки перепадали, и люди поправлялись. Хуже было с действительно больными. На фоне такого всеобщего истощения организма самое ничтожное заболевание – смерть.
Главных болезней две: дистрофический понос и сыпной тиф. Дистрофия, дошедшая до стадии, при которой кишечник не усваивает никакую поступающую в него пищу, почти неизлечима в наших условиях. Немногие из таких дистрофиков выздоравливают, а те, кто вырывается из лап смерти, обязаны этим в первую очередь резервам своего организма, которые пришли в действие в несколько лучших условиях лазарета, но не благодаря нашему лечению, которого почти и не было. Угольные таблетки – вот и все лекарство, которое отпускали нам немцы для лечения дистрофических поносов.
Но вот появился еще и тиф, уже давно ожидавшийся нами по предсказаниям нашего шефа, доктора Евдокимова. Он начался как-то незаметно тем, что стало увеличиваться число больных, поступающих в лазарет с высокой температурой. Через несколько дней, после появления характерной сыпи на больных, Евдокимов определил, что это «долгожданный» сыпной тиф. Число тифозных больных росло катастрофически. Немцы срочно, опять за несколько дней, построили для тифозных изолятор из шести отдельных бараков позади нашего лазарет-блока, обнесли их колючей проволокой, в воротах поставили будку с дежурным полицаем – конечно, с плеткой – и приказом – ни туда, ни оттуда никого, кроме поименованного персонала лазарета, не пускать.
Одного за другим приводил я в тифозный изолятор всех знакомых по своему полку. Оттуда – никого не встретил. Сам заболел тифом под новый год. Евдокимов распорядился не отправлять в тифозный изолятор больных из персонала. Мы все, заболевшие, остались на своих местах. Евдокимов лечил нас сам, колол камфару и применял все, что мог. Меня спас, но половина из заболевших работников персонала умерли. Опять та же закономерность – смертность от тифа выше среди людей физически крепких, сильных, раньше никогда ничем не болевших. Люди, перенесшие в прошлом много разных болезней, более стойко переносили тиф и умирали меньше.
Вообще же от тифа умирало, наверное, процентов 80, а то и больше из числа заболевших.
Дошел тиф и до немцев. Вот тогда-то они и забегали, организовали изолятор. Объявили лагерь на полном карантине. В воротах установили «ежи», как будто без этих «ежей» кто-нибудь мог из лагеря выйти. Вывод на работу из лагеря рабочих бригад был прекращен. Сами немцы в лагерь перестали заходить. Продовольствие подвозили к воротам лагеря и передавали отъевшимся поварам и полицейским. В лагерь мог въезжать только поляк, вывозивший трупы на огромной пароконной бричке. Борта брички высокие, решетчатые, в бричку грузилось 40 трупов, поэтому они складывались штабелями по 40 штук в каждом вдоль главного проезда и по аппельплацу. Было несколько таких периодов: в конце сентября, когда кончилась теплая погода и наступили первые осенние холода, в начале ноября, когда ударили первые холода и заморозки, и в середине декабря, когда эпидемия тифа достигла своей вершины – во время которых число умерших достигало 500 и даже 700 человек за сутки, а эти чудовищные поленницы из голых, замороженных скелетов, обтянутых кожей, с раскинутыми в сторону руками и ногами, с раскрытыми черными ртами и замерзшими глазами, десятками тянулись одна за другой по аппельплацу, и поляк не успевал вывозить.
Человек способен привыкать ко всему. Привыкли мы и к этому зрелищу. Ни вид этих ужасных поленниц из человеческих трупов, ни их число уже не вызывали никаких эмоций и переживаний. Всем казалось, что так и должно быть, раз кругом такие условия.
Тиф вместе с голодом и холодом сделали свое черное дело – унесли тысяч двадцать людей. Но было и еще одно бедствие, не столь роковое по многочисленности жертв, но отвратительное по своей сущности.
В сентябре сорок первого распространился бандитизм в лагере. Образовались шайки лагерных бандитов, пытавшихся выжить ценой жизни своих товарищей. В нормальных условиях существования эти люди никогда не стали бы бандитами, но в том нечеловеческом состоянии, в которое привел их немецкий плен, они ими стали.
Методы действия таких бандитских шаек были однообразны. Они заманивали к себе в норы намеченных одиночек с помощью подсылаемых зазывал, угощавших хлебом, куревом, обещавших путь к спасению. На краю гибели от истощения люди становились легковерными и наивными, как дети, и легко поддавались грубому обману. В их психике происходили несомненные сдвиги в сторону инфантильности. В отношениях друг с другом они вели себя именно по-детски – ссорились из-за самых нелепых пустяков, плакали слезами, если у них сосед забирал себе какую-нибудь ничтожную тряпку или щепку, обессилевшими вялыми руками пытались бить друг друга, не причиняя один другому ни малейшего вреда. Также по-детски, беззлобно и естественно мирились, не помня недавней ссоры. Обманывать таких несчастных и погибающих людей не составляло никакого труда тем, кто решился выжить сам за их счет.
Завлеченный в нору, где было двое бандитов, такой обессилевший человек легко становился жертвой. Ночью бандиты его душили, раздетый догола труп выбрасывали наружу и оттаскивали куда-нибудь подальше от своей норы. Добытая одежда и другие предметы через полицейских или через рабочие бригады выменивались на хлеб, сало и табак.
Бывало, намеченная жертва не поддавалась уговорам и подкупу, не верила посулам, не шла на приманку хлебом, табаком и салом. Тогда обреченного выслеживали до его норы, где он жил с одним или двумя товарищами. Нора не могла быть размером больше, чем на трех человек, иначе происходило самообрушение непрочной песчаной кровли.
Ночью, подкравшись к этой норе вдвоем, втроем, бандиты, подпрыгнув, обрушивали кровлю норы на спящих. Обессиленные люди, заваленные почти метровым слоем земли, не имели сил выбраться сами и через несколько минут умирали от удушья. Нападавшие, вернувшись в свою нору и отлежавшись там полчаса-час, возвращались и, прячась за неровности почвы от шарящих по территории лучей прожекторов, лежа, лихорадочно работали самодельным шанцевым инструментом, быстро докапывались до засыпанных, отыскивали жертву и забирали то, что им было нужно. Так, из-за одного кожаного ремня или из-за нерваной гимнастерки погибал не только владелец этих жалких ценностей, но и его товарищи.
Каким-то образом немцы разоблачили и раскрыли одну из таких шаек. Их было четыре человека. Им было устроено формальное следствие, их предали военно-полевому суду, который приговорил всех четырех к повешению.
На аппельплаце была выстроена виселица. В назначенный день казни нас всех вывели на аппельплац и построили вокруг виселицы. Осужденных привели из арест-блока под конвоем немцев с автоматами. Руки бандитов были связаны сзади, на груди каждого висела доска с надписью по-русски: «Я задушил своего товарища».
У виселицы стояло несколько немцев с барабанами.
Осужденных обвели вокруг всего аппельплаца, останавливали перед каждой колонной и заставляли кланяться и говорить: «Простите, братцы». Они еле-еле волочили ноги, и свои слова о прощении произносили чуть слышным шепотом. Во время содержания их в арест-блоке под следствием и в ожидании суда их ежедневно избивали плетками, и жизнь в них уже и так только-только теплилась. Они с трудом держались на ногах. Приближавшаяся смерть на виселице была для них уже как избавление от непрерывных физических истязаний.