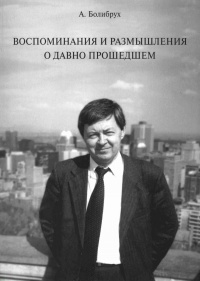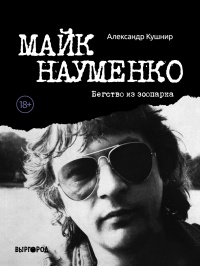Книга Я был власовцем - Леонид Самутин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В критические минуты голова работает быстро. Что, если показать им старый советский паспорт, который чудом уцелел у меня во всех бесчисленных передрягах, оставшихся позади? Они ничего не разберут в нем, но там есть моя фотография и советский герб на печати и водяных знаках – гербу с серпом и молотом они, конечно же, поверят! Все советское сейчас в фаворе, а я скажу им, что я – русский, советский, еду в Копенгаген установить связь с советской миссией, которая должна прибыть на днях в столицу.
Но вот беда. Вспоминаю, что паспорт-то лежит на дне одного из чемоданов, а там сверху лежат совершенно компрометирующие вещи: сверху немецкая форма, сапоги, оружие (три пистолета, патроны к ним), подшивки нашей газеты.
Пришлось выйти из очереди, найти укромное местечко и, приоткрыв крышку чемодана, нашарить на дне спасительный советский паспорт.
Все удалось, как надо. Паспорт я достал, не вызвав ни у кого подозрения. Датчане не подозрительны. Добродушие и простодушие – преобладающие черты их народного характера, а в те дни всеобщего ликования и радости они тем не менее были склонны к повышенной бдительности. Я ожидал, что меня таки задержат и мне придется объяснять значение моего паспорта и доказывать его подлинность. Но все было по-другому!
Едва я сказал по-английски (не по-немецки! только не по-немецки!), что я – советский русский, и подал им свой паспорт, указав пальцем на печать с гербом, как все проверяльщики бросили остальных пассажиров, сгрудились вокруг меня и с возгласами радостного удивления принялись хватать меня за руки, жать их, хлопать меня по плечам, по спине – обнимать мужчин у них не принято – и громко, возбужденно кричать что-то приветственное, я и не разобрал всего, что они мне тогда наговорили. Потом тут же отдали мне назад мою паспортину, двое дюжих молодцов похватали мои тяжелые чемоданы и поволокли их по трапу на паром, крича мне, чтобы я не отставал. Оставшиеся у трапа еще кричали мне вслед какие-то доброжелательные слова напутствий, и вот таким совершенно триумфальным образом, на удивление окружавших датчан, я был доставлен наверх в помещение 1-го класса. Ребята, притащившие мой багаж, еще долго трясли мне руки и опять хлопали по плечам, и все лопотали что-то радостное и приветственное.
Паром отправился, а я вышел на палубу, на морской ветер, чтобы немного остыть и успокоиться от пережитого волнения и возбуждения. Все смешалось у меня в голове и в сердце. И радостно было, что вот опять, в критическую минуту, нашелся и удачно избежал опасности, и горько в то же время… Горько от сознания, что вот досталось мне то, что совсем мне не принадлежало. Совсем наоборот, заслужил я вовсе противоположное. Если бы только эти милые ребята знали, кому они только что наговорили столько любезностей и благодарностей, что они несли в этих чемоданах, кого они в 1-й класс устраивали!
Я ходил и ходил по палубе, стараясь не встречаться глазами с датчанами-пассажирами, чтобы избежать их словоохотливости, и медленно, медленно приходил в себя…
С середины мая я уже батрачил в имении «Роогор». Бродя по огромному полю, засеянному цветной капустой, выращиваемой на семена, я передвигал длинные трубы оросительной системы, которые надо было включать в 4 часа утра, и думал, думал, думал…
Теперь ничего другого и не оставалось, сама жизнь выдвигала требование: пришла пора подводить итоги. А итоги были куда как невелики. Я остался не только без Родины, без друзей, без профессии, пригодной в этих условиях, без будущего и даже без своего имени. Никогда не думал, что это так мучительно – скрываться под чужим обличьем, откликаться на чужое имя. Даже своей национальной принадлежности я теперь лишился.
И ради чего? Теперь, когда все кончилось, все встало на свои места и вместе с тем все прояснилось, с беспощадной очевидностью открывалась мне на том пустынном по утрам датском поле вся глубина моего собственного падения и падения тысяч таких же, как я, незадачников. Что мы наделали, безумцы? Во имя чего, во имя какой идеи изменили Родине, своим соотечественникам, пошли служить врагам своей страны и своего народа? Что мы смогли предложить ему взамен того, что он имел и что мы все имели вместе с ним?
Вечерами в своей комнате я доставал свои бумаги и раз за разом перечитывал тот документ, единственный программный документ, который смогло родить наше «движение», пресловутый Манифест Комитета, возглавленного Власовым. Пустота, бессмысленность и демагогическая трепотня этой бумаги, прокламирующей все эти «действительные» свободы, открывалась все с большей и беспощадной ясностью. Одна за другой картины недавнего прошлого проходили перед памятью в те безмолвные утренние часы на поле. Сколько раз за эти четыре года приходилось рисковать жизнью, становиться на самый край пропасти – все оказалось во имя лжи, неправды, прямой и примитивной измены. И мне еще повезло, крупно повезло – я уцелел. А скольким не повезло? Скольким так и пришлось бесполезно и бесславно погибнуть? И еще скольким суждено, как мне вот теперь, влачить жалкое существование изгнанника, страшащегося уже не только людей, но самого себя, вынужденного скрывать от людей даже свое имя.
И опять вспоминалась мне сцена у трапа на пароме. Как восторженно приветствовали меня датчане, когда я назвался советским русским, сколько в этих приветствиях было уважения и признательности к той стране, которую я оставил, к тем людям, которым я изменил, а теперь вот, спасаясь, незаконно примазался! Этот последний, в общем-то пустяковый обман почему-то особенно терзал мою совесть…