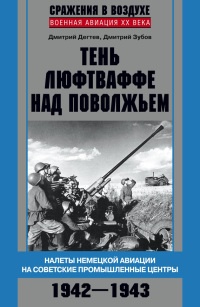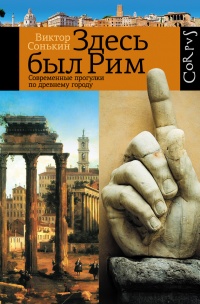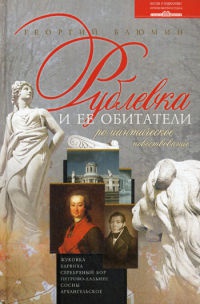Книга Вечная мерзлота - Виктор Ремизов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– И что?
– Временную опору поставили…
– Понятно. А эта торчит среди реки, как Пизанская башня! Мне уже рассказывали!
– Забавно будет если так и останется, – улыбнулся Горчаков.
– Не оставят, взорвут, молотками разобьют, у нас не любят, когда грехи торчат наружу… Там же и паровоз упал, вы слышали?
– Нет.
– Вместе с пролетом съехал в реку… за два дня достали! Зэков нагнали, и те выволокли… Ой-ёй, грехи наши тяжкие! – Миша-аптекарь присел к печке и стал нервно разгребать кочергой уголь.
Горчаков надел бушлат, Злотник пошел его проводить.
В поезде было всего два вагона и теплушка для охраны. Из «офицерского» вагона вышли покурить с десяток военных – какие-то очередные проверяющие. Злотник обнаружил знакомого офицера и посадил Горчакова с его лекарствами в дальний угол хорошего вагона. Офицеры уже хорошо выпили и закусили и теперь пили чай, который им носили из вагона охраны.
Все много курили, говорили громко и неинтересно.
Поезд шел медленно, за окном была ночь, а внутри жарко от буржуйки, и Горчаков задремал. Проснулся от того, что поезд стоял, а в вагоне никого не было. Вышел на воздух.
Поезд застрял на повороте, перед ним расчищали пути. В темноте не видно было ничего, слышались только окрики охраны, хриплый мат работяг да звон лопат о рельсы. Два офицера рядом курили и негромко обсуждали аресты на «пятьсот первой».
Там, на западе, начали строить раньше и большую часть трассы уже должны были сдать в постоянную эксплуатацию, но этого не случилось. Поэтому – начали сажать. Ермаковское руководство притаилось, кто мог отсюда перевестись, переводились и уезжали. Даже с понижением по службе и потерей в зарплате – это и обсуждали офицеры.
Негодность Великой Сталинской Магистрали начала проявляться всюду – никакой туфтой этого уже не прикрыть было. Единственное, что еще как-то предохраняло от Большого Гнева, были такие вот комиссии, закрывающие глаза на все, что тут происходило. Их приукрашенные отчеты приукрашивались еще и в Москве, в Главке, и Сталин получал картинку строительства далекую от реального положения дел.
Возможно, впрочем, что интерес к заполярному строительству он потерял еще раньше.
Поезд осторожно двинулся дальше, Горчаков кемарил в своем углу под медленный перестук колес, вагон наклонялся то в одну, то в другую сторону… когда-то это все равно должно было кончиться. Дорога требовала перекладки насыпи, замены рельсов и шпал, не было мостов… да и нужды в этой дороге ни у кого не было.
Магистраль была копией того, что происходило в стране, и когда и как это могло остановиться, было совершенно непонятно. Страна, живущая в бараках и впроголодь, строила грандиозное и никому не нужное. И делала вид, что гордится этим. Горчаков вздохнул, морщась и отгоняя от себя эти также никому не нужные мысли.
У него была Ася. И Коля… и еще Сева, которого ему еще предстояло полюбить.
78
«Я буду писать дневник. Для тебя. Возможно, он никогда не попадет в твои руки…»
Николь перестала писать, все еще думая о чем-то далеком отсюда, привстала с маленькой скамеечки, заглянула в булькающий котел и вернулась к дневнику. В котле кипело белье.
«Но что мне делать? Я тут одна, разговариваю только с Катей и Сашей, поэтому, пусть хоть эта бумага знает, что с нами было и что нас еще ждет. Моя хозяйка почти не разговаривает со мной, она ненавидит русских и пустила меня только из-за денег. Я плачу ей в два раза больше, чем это стоит, но найти жилье здесь невозможно. Орск – это сплошные ссыльные, большинство со времен войны живут в саманных домиках, в бараках друг на друге и даже в землянках. Орск, кстати, довольно большой, мы из старого города идем до комендатуры почти два часа, здесь много эвакуированных предприятий.
Но я отвлеклась, пишу, будто это письмо, которое я сейчас отправлю. Так не получится. В Красноярске (мы там ждали трое суток, пока они решали, что с нами делать! Точнее – куда нас отправить. Теперь и второй твой ребенок посидел в тюрьме! Камера, правда, была чистая и кормили сносно). Так вот в Красноярске мне какой-то майор прямо сказал, что переписка с Беловым А. А. мне категорически запрещена, чтобы я “даже не пыталась, а то будет хуже!”. Я спросила – почему и что может быть хуже? Но он не ответил. Они обыскали все мои вещи и меня! Забрали все письма. И все твои фотографии – только твои! На следующий день забрали и фотографии детей. Я молчала, я так испугалась, когда за нами пришли в Лугавском. Это было среди ночи, они, как всегда, ничего не объясняли! В Красноярске привезли в тюрьму и завели в камеру. Я решила, что меня сажают. Как я испугалась! Вцепилась в детей и не могла говорить. Ничего не спрашивала у наших конвоиров… Теперь вспоминаю, они вели себя не грубо, и нас везли на хорошей машине.
Написала много слов, но ничего не понятно. (Это потому, что я давно ни с кем не разговаривала.) На следующее утро тот майор (наверное, он с кем-то советовался?) сказал, что ты орденоносец, ты на доске почета, что ты примерный советский человек, а связь со мной тебя порочит… и еще что-то в этом духе. Сказал, если я тебе напишу, то буду привлечена по какой-то там статье на десять лет, а детей заберут в детский дом.
Может быть, он и наврал, как они всегда это делают, но не в моем положении искушать судьбу. Я не буду тебе писать, пока ты не освободишься! Осталось немного».
Саша громко всплакнул во сне, Николь замерла, слушая, но мальчик, вздохнув, снова затих.
«Мне очень одиноко без тебя, не трудно, но именно одиноко. Невыносимо смотреть на детей, таких милых, похожих на нас… и… Нет, это не то, я не могу объяснить… Все, что происходит с нами, ненормально. В этот сумасшедший дом нельзя поверить, а мы в нем живем!
Все, не могу писать. Я пытаюсь кипятить белье (без мыла – его нет, и без дров, их почти нет, но есть немного сухих коровьих какашек!). Только что получила от хозяйки, она страшно возмущалась, что я взяла ее казан. Сейчас буду полоскать, у меня скоро проснется голодный Сан Саныч и разбудит Катю. У холода есть свои плюсы – дети помногу спят, особенно сейчас, когда от белья тепло идет по всему домику».
«Сегодня уже 13 февраля. Перечитала свой “дневник” и поняла, что не умею ничего рассказать. Хотела все по порядку и подробно, но, кажется, все уже и рассказала очень бестолково. Как ты понял, в Лугавском меня разбудили среди ночи, дали час времени, я едва успела собрать вещи. Представляешь, Матвеевна сходила к кому-то ночью, заняла денег и вернула нам за картошку! Милая ворчливая старуха, я уже целый месяц тоскую о ней, о ее теплой избе, о моем порубочном билете, по которому можно сколько угодно собирать хворост в тайге. Здесь с дровами полная беда! Лучшие дрова – высохшая коровья лепешка на дороге, да на нее много охотников!
Мы не попрощались с Зинаидой Марковной, я написала ей письмо, но она почему-то не ответила. Возможно, потому что в Лугавском одно почтовое отделение и очень легко отслеживать все мои письма. Можно было написать тебе от чьего-то имени, но я боюсь… Я не знаю, что с тобой, мне назойливо видится, что тебя снова посадили… Тьфу, тьфу!