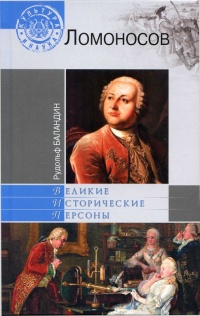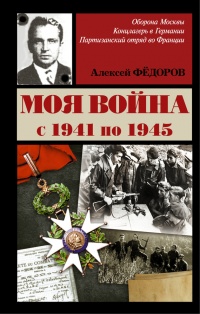Книга Кузьма Минин - Валентин Костылев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– О чем же мне, матушка, и говорить тогда? – обиделась та. – У меня одно дело.
– Грешно, Оксинья, о том теперь… Грешно!
– А чтобы грешно не было, снимай, голубушка, в те поры крест с себя, занавешивай образа, – непристойно блуд видеть иконам. После того грешное дело богом завсегда простится. Иконы надо завешивать… – нравоучительно повторила Оксинья… – Испокон века так ведется… Боярыни и боярышни этим лишь и спасаются. Непристойно иконе видеть наши грехи.
– Уйди от меня!.. Ты! Ты во всем виновата!.. Ты сбила меня своими речами пустошными и блудными. Ты в наши терема соблазны приносила! Ты! Ты!.. Не хочу я дите!..
Ирина вскочила с кресла, замахала руками на Оксинью. На ней была длинная рубаха красного цвета, поверх которой она накинула серебротканый летник. Лицо ее позеленело.
Оксинья в страхе попятилась. Прошептала:
– Стой! Стой! Обойдется! Пришлю знахарку… Она знает наговор!
Девушка закрыла лицо руками.
– Спаси меня, спаси! – тихо всхлипнула она.
«Потворенная баба», получив горсть серебра, поклонилась и вышла.
* * *
В желтом колпаке, с вымазанным в синюю краску носом, в зеленом кафтане, на котором были нашиты разноцветные лоскутья, изображавшие мечи, бердыши, луки, в комнату Ирины вошел Халдей.
– Увы нам! – взволнованно произнес он. – В Китай-городе начался мятеж…
Уже?! Не зря в последние дни Ирину мучили бессонница и какое-то неприятное предчувствие. Вот почему отец забыл и мать, и ее!.. Дни и ночи он проводит у Гонсевского.
Ирина слышала задыхающийся голос Халдея:
– …Твой отец… в Цветное сказал ляхам… Он учил их… Ирина насторожилась:
– Что он сказал? Кого учил?!
Глаза скомороха сверкнули гневом:
– Твой отец… Иуда он!
Халдей видел перед собой исхудавшую, глубоко несчастную Ирину, ее растерянно жалкий взгляд из-под золотых ресниц, но его сердце, полное ненависти к Салтыкову, не могло смягчиться.
– Беги к отцу! Удержи его!.. Они готовят с Гонсевским смерть… гибель… народу! Помешай пролитию крови, и муки твои уменьшатся. Отврати беду от нас!
Девушка поднялась, подчиняясь горячим словам Халдея.
Ирина торопливо надевала на себя опашень, путаясь в длинных, спускавшихся до земли рукавах… Скоморох помог ей.
– Где отец?
– В старом Борисовом дворце. Беги туда! Там все собрались…
Но только Ирина хотела выйти, как на кремлевском дворе прогрохотал орудийный выстрел. Послышались гудки, бой барабанов и литавр, крики, шум…
Ирина и Халдей в тревоге побежали вниз на улицу.
К Фроловским воротам по площади в стройном порядке спешно шагал отряд немецкой пехоты. Региментари и ротмистры с саблями наголо бегали среди раскинувшегося вдоль кремлевской стены гусарского табора.
Из-за деревянных хором, из-за заборов выходили все новые и новые роты жолнеров.
Халдей хмуро сказал:
– Поздно!
Ирина, испугавшись шума и множества людей, скрылась у себя в крыльце.
Халдей увидел толпу жолнеров, которая насильно гнала по Пожар-площади извозчиков в Кремль втаскивать пушки на стены. Извозчики крестились, божились, ругались, но ехать в Кремль не хотели. Собралась толпа. Стала на сторону извозчиков. Оттеснила поляков. Те обозлились. Приготовились стрелять. Но… толпа росла, делалась смелее.
На помощь жолнерам подъехали дотоле безучастно сидевшие на своих громадных конях около церкви Покрова. (Василия Блаженного) немецкие латники. Они принялись разгонять народ нагайками. Жирные лица их с закрученными кверху усами были насмешливы. Немцы врезались в толпу, давя народ, нанося удары направо и налево. Немало людей с изуродованными лицами, сбитых нагайками и конями, уже барахталось на земле. Были слышны стоны. В немцев полетели камни.
На крик толпы из Китай-города прибежали крестьяне, приехавшие из деревень, торговцы, посадские обыватели, случившиеся на торгу. Они вступили в драку с немцами.
Халдей поднял с земли несколько увесистых камней, прицелился и пустил их в одного немецкого латника. Немец, намеревавшийся ударить кого-то, взмахнул руками и свалился наземь.
Смыв краску с лица, сбросив с себя шутовской плащ, Халдей снова втиснулся в толпу. Теперь он дрался с немцами саблей. Но теснота мешала ему. Он влез на крышу одного из ларей. Окинул взглядом площадь: толпы все идут и идут из прилегающих улиц, не ведая о том, что творится около Кремля. А там мелькали обнаженные сабли; пики то поднимались, то снова погружались в толпу; взлетали доски, брусья, камни…
Народ рубили уже не только немцы, но и прискакавшие к ним на помощь под командой пана Пекарского королевские драгуны.
Мимо Халдея проносили раненых женщин и детей…
Он соскочил наземь, побежал в прилегающие к площади улицы и стал уговаривать народ отступить, не лезть, не обрекать впереди стоящих на гибель.
Слова его были услышаны, подхвачены другими – толпа отступила.
Избиваемые драгунами москвичи побежали по Никольской и Ильинской улицам. Многие из них, цепляясь за камни и доски, падали и умирали под ударами сабель. Те, которым удалось добежать до Китай-города, тоже не спаслись.
В Китай-городе, застроенном боярскими и обывательскими домами и сотнями лавок, было удобнее скрыться от преследования конницы, чем на площади. Пан Пекарский понял это и послал пехоту, которая врывалась в дома, обшаривала дворы и вытаскивала спрятавшихся горожан на улицу.
С пехотой пришел и Салтыков. Он привел жолнеров к дому Андрея Васильевича Голицына. Жолнеры выломали дверь, ворвались во внутренние покои. Андрей Васильевич встретил их с саблей в руке. Ранил двоих.
Через некоторое время из дома вышло несколько плечистых жолнеров.
Они волокли на себе громадные узлы. Выглядывали из узлов женские и детские сапожки, сарафаны…
– Вечный покой рабу божьему болярину Андрею и болярыне Варваре с чадами, – произнес Салтыков, усмехаясь. – Не будут думать теперь о царском троне.
Возвращаясь в Кремль, поляки и немцы разбивали бочки с вином, хранившимся в боярских и купеческих погребах, захватывали женщин и девушек и насиловали их. Меньше всего заботились они сейчас о съестном. Все хлебные и зерновые склады горели беспрепятственно. Кремль остался с небольшими запасами.
* * *
Перепуганные бунтом на Пожаре, кремлевские обитатели решили отслужить молебен о прекращении мятежа. Службу совершал в Успенском соборе снова возведенный в сан патриарха Игнатий. (Гермогена бросили в темницу.)
В золотой митре, осыпанной изумрудами, и в белоснежном парчовом облачении стоял Игнатий на амвоне, осматривая с какой-то растерянностью окружающих богомольцев, словно сам не верил в неожиданное свое превращение из бродячего чернеца в патриарха.