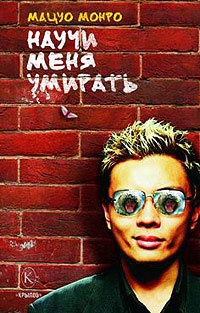Книга Свое время - Александр Бараш
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Первую половину восьмидесятых я, конечно же, провел в Аквариуме… временами отвлекаясь на прогулки в Зоопарк и походы в Кино. Гребенщиков для русской рок-музыки был тем же, что Пригов для тогдашней поэзии, – таким Юрием Долгоруким, объединившим удельные достижения многих предшественников и современников. Правда, в нем было еще «волшебство», отрефлектированная и взрощенная лирико-магическая харизма… это ближе к Бродскому, чем к Пригову.
В золотом запасе памяти – чистые, как слеза фаната, слитки счастья: Рок-н-рол мертв, Мочалкин блюз, Под небом голубым, Старик Коз(л)одоев… Это гопники… Нас здесь никто не любит и не зовет на флэт… Троллейбус, который идет на восток… Потом их сменил Мамонов.
Любопытно, что единственный, кто выжил, ожил через много лет, в иной жизни, – это Цой. Другие остались в своей – той нашей общей – эпохе. «Кино» в начале 1980-х казалось простоватым, и не таким волшебным, как «Аквариум», и не таким энергетичным, как «Зоопарк». А позже проявилось как что-то более глубокое, с сильным месседжем, пробивающимся через несколько эпох. Соединение депрессивности и веры в себя, совпавшее с эпохой перемен… и вообще – молодое чувство, схожее с аурой и антуражем кино «Маленькая Вера»…
К слову, об антураже. В Перове, как и Нестеров, через него и познакомились, жил лидер панк-группы «Чудо-Юдо» Хэнк – замечательный парикмахер. Мне удалось завоевать его мгновенную, но вечную симпатию, когда на вопрос, какую стрижку хочу, я походя, но от души ответил: «Что-нибудь антисоветское». Хэнк стриг на дому. После некоторого ожидания-покуривания в его комнате, стильно-обгаженной, с потеками от плевков на обоях (я старался не смотреть и вообще сидел немного «на иголках», порог физиологической брезгливости у меня тоже антисоветский), клиента выводили в проходную семейную гостиную: раскладной лакированный стол у окна, тюлевые занавески, черно-белый телевизор в углу с кружевной салфеткой и вырезанной из газеты телепрограммой… – и сажали на стул посреди комнаты, покрывая простынкой. Мимо шаркал тапочками папа – отставной военный, из соседней комнаты иногда выпрастывался большой волосатый Мамонт – брат Хэнка, товарищ по группе… Как-то посреди сеанса Хэнк сказал: «Парикмахер я от бога, а с группой – по-другому…» Да. Хэнк был настоящий профессионал, с любовью к делу, и отсвет этой клевости оставался на прическе.
В наушниках на улице я все же слушал «Dire Straights», «Talking Heads» и Стинга, иначе мир маленькой веры стал бы уже клинически непереносим.
I pray every day to be strong, for I know what I do must be wrong… Где-нибудь на Ярославском шоссе, на тропинке в снегу между берез и осин по дороге от автобусной остановки к дому: There’s a moon over Bourbon Street tonight, I see faces as they pass beneath the pale lamplight…
Как свести эти разные измерения, «треки», существующие одновременно? Сохранив акустическую среду, балансы и прозрачность (есть такие понятия в звукозаписи)? Удача, ассистентка режиссера универсального микшерного пульта, свела наши треки – параболы движения – с Олегом Нестеровым.
Кирпичная пятиэтажка внутри дворов, заросших тополями, гаражами и детскими площадками в Перове, недалеко от Измайловского парка. Один мир с моим детством на Октябрьском поле. Словно открыл ящик старого письменного стола на даче, а там лежит и светится все та же новогодняя открытка начала шестидесятых с фосфоресцирующими рубиновыми звездами.
Мы садимся в маленькой, но длинной комнате – из тех, что справа за гостиной в таких трехкомнатных квартирах. Аудиосистема вдоль одной стены и напротив – диван с парой рок-плакатов над ним… Чай, шоколадно-вафельный тортик, записи группы «Елочный базар», мои самиздатские сборники… Вот так это и продолжается четверть века, с переходом от вафельного тортика к французскому вину и «птице с салатом». – И примерно такому же изменению в песнях и книгах.
И, кажется, удалось смикшировать в наших песнях то несоединимое, которое вроде бы не может существовать в одном сознании, «не вынесет двоих». – Что мы, бывшие советские люди, несем в себе: опыт ужаса антиутопии, насилия, бесчувственности ради того, чтобы выжить… – и медитативность, и мягкость, почти до дара слез.
Через несколько месяцев после знакомства, когда мы начали вплотную работать над общими песнями, я предложил новое название группы – «Мегаполис». Оно было одним из вариантов на листе с разбросанными, как нынешнее облако тегов, словосочетаниями. Помню такое: «Милое дело», тоже, в общем-то, вариант… Но остановились на «Мегаполисе», городской музыке, музыке Москвы. И первый совместный альбом, 1987 года, был завязан на городе – и на социуме, столицей которого был любимый город…
Альбом, еще «подпольный» – собственно, кассета, – назывался «Утро», по песне на стихотворение из цикла «Гранитный паноптикум», там подразумевалась позднесоветская Москва:
Когда о радости труда
нудит по радио звезда
краснознаменного ансамбля
заря заняв мою жилплощадь
бюстгальтер розовый полощет
и водяной ворчит в клозете
читая новости в газете –
я чувствую себя как цапля
попавшая по плану в ощип
Это пелось нежным летящим голосом, аранжировалось в духе new romanticism и было как бы внутренним голосом человека, стоящего поутру с кофейной джезвой над газовой конфоркой – перед тем как слиться в канализацию метро…
Одно слово не пропевалось: «нудит по радио звезда». Стало: грустит. Пример соединения двух интонаций – как бы голосов «водяного» и «цапли», социального протеста и интимно-лирической ноты. Ощущений, существующих часто единовременно в одном сознании, в естественно-противоестественном переплетении. В песне еще звучал девичий бэк-вокал – подчеркивая нерасторжимое расподобление… То, что было в стихотворении, выявилось в проекции на музыкальную вещь, в ее внутренней структуре и подаче. Что-то вроде спектакля по пьесе.
У «Мегаполиса» было много композиций, возникших во время многочасовых групповых медитаций-сейшенов «на базе». После таких совместных трипов оставались записи, из которых можно было «нарезать» гораздо больше песен, чем те, которые получили продюссерское воплощение. Во время сейшена Нестеров наговаривал какие-то слова, возникавшие в общем музыкально-интонационном потоке. Иногда это был готовый текст песни, иногда «образ» текста с одним куплетом и припевом, или только «образ» с проплывающими островами слов… иногда музыка без слов, которая могла сойтись со стихотворением.
Я подключался к этим записям-состояниям в наушниках, закрыв глаза и раскачиваясь, – и начинал наговаривать текст, исходя оттуда. То есть делать симметрично то же, что Нестеров делал, беря текст моего стихотворения: проращивать-проговаривать-проявлять месседж… В данном случае музыкальной вещи – в текст. Так было, например, с той музыкой, которая стала называться песней «Будни»:
Небо это то чего не видно
Тело отличается от вещи