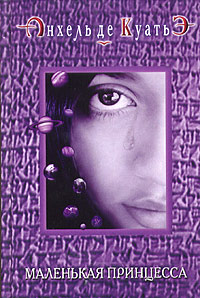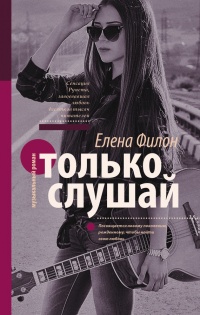Книга Все могу - Инна Харитонова
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Таня бежала по коридору, круглому, застекленному, вид из которого напоминал ресторан «Седьмое небо». Она стучала в окно, кричала, думала, что вот-вот кто-нибудь выйдет ей навстречу. Но в окне показался лишь ее отец, никогда нелюбимый, чужой, небритый, давно свезенный в московский крематорий. Отец тянул к ней руки, и она смотрела лишь на его ногти, увеличенные, лакированные, круглые, как у всех алкоголиков. И чувствовала, что больше никого не будет, никто не появится в этом стеклянном коридоре…
– Не плачешь уже? – Из белизны потолка на Таню опускалось лицо полной санитарки.
– А я что, плакала? – выдавила из себя Таня.
– Плакала, ой как плакала. – Санитарка всплеснула руками, выражая степень Таниного плача, помолчала и многозначительно добавила: – От любви это. От любви.
За почти сорок лет работы в этом отделении насмотрелась санитарка Зинаида Григорьевна всякого. Придя сразу после войны, молодой женщиной, так и осталась она здесь. И после ее прихода в это желтоватое здание с белыми рядами колонн у входа будто ничего и не случилось в ее жизни. Жила она по-прежнему через дорогу с прежним и единственным своим мужем. Родила только трех ребят, и то все здесь, в родных уже стенах. Выросли и разбежались ее сыновья. Старший на Север, средний – в соседний район на жилплощадь жены, младший – в Ленинград, в Медицинскую академию. Особенно младшим гордилась Зинаида Григорьевна, радовалась, что выйдет сын большим врачом, военным хирургом, и продолжит достойно ее лечебное дело. Муж же ее, давно пенсионер, подрабатывал от скуки в соседнем больничном корпусе лифтером. Ладно жили они всю жизнь, так же ладно встретили старость. С юным трепетом готовила Зинаида ему подарки к 23 февраля, гладила ему рубашки, готовила с собой бутерброды. Как в молодости, не отдавая времени безделью, старался Анатолий Михайлович каждую свою свободную лифтерскую минутку потратить на дело. Столярил, что-то чинил, паял, сделал новый фанерный ящик для радио, сбил табуреточку, обил ее куском старой праздничной красной дорожки и в считаные месяцы заслужил уважение главного врача. На Новый год подарили ему врачи музыкальную открытку. Уж очень полюбилась она старику, носил он ее всегда в кармане, обернутую в полиэтилен, и изредка, когда Зиночка забегала к нему на минутку, открывал ей на ушко позолоченную бумажку. Глядя со стороны на эту пару, молодые завидовали, но, возвращаясь домой, разводились, скандалили, изменяли. Никто не подумал спросить у Зины и Михалыча, чего им стоило их семейное счастье. Тем более никто и не знал, что уже лет двадцать находятся они в официальном разводе, что в молодости Михалыч не прочь был погулять, принять на грудь и подебоширить, а Зиночка долготерпением молчала, кормила троих сыновей, развозила их по всей Москве в садики и ясельки, потому что места им в одном никак не находилось, и имела всего одну слабость – кино. После ночной заходила она в кинотеатр на утренний, самый дешевый сеанс и с упоением глядела на экран, забывая горести и печали, выходя из темноты зала помолодевшей, новой и вроде бы счастливой.
Страсти киношные никак не сравнивались со страстями больничными. Вспоминала иногда Зинаида Григорьевна, как одна понимающая грузинская мама привела к ним свою нагулявшую четырнадцатилетнюю грузинскую дочь. А папаша их, статный горец, выследил женщин и бегал в грязнущих сапогах, сотрясая больничные коридоры национальными ругательствами и проклятиями, со здоровым кинжалом за женщинами, пока не уткнулся в богатыря-реаниматора, который и обезоружил разгневанного отца. Видела все это санитарка Зина, видела и другое, с годами накапливая свои заметки и становясь спецом в своем деле. Наблюдала, что восточные женщины всегда приходят стайками, одна ложится, а остальные ждут, и делать им все можно только без наркоза: мол, религия им не позволяет, а крики их разносятся аж во дворе. Знала, что в наркозном бреду плачут редко, а если и плачут, то больше от любви. А просят прощения у Мишеньки или Сашеньки, а чаще у Боженьки. Знала Зина, что и причитают после, срываясь на южнорусские завывания, когда боль выступает наружу, все одинаково, и обычные бабы, и заумные кандидатки наук.
Таня проснулась первая и осматривала своих соседок. Кого-то только привезли, небрежно свернув с каталки на кровать, но аккуратно попав в ее узкий островок. Одна все спрашивала, когда можно домой, и тревога ее говорила о том, что дома к обеду кто-то придет и этого кого-то надо обязательно встретить, чтобы не родилось лишних вопросов и подозрений. Сама Таня не торопилась, спешить ей было некуда.
Дома, разобрав сумку, она засунула в корзину с грязным бельем заляпанную кровью сорочку, а ведь сначала выкинуть хотела, да пожалела, тщательно намылась и стала ждать. Дней через пять стало ясно, что осложнений, которых так боялась Елена Николаевна, каждый день названивая своей пациентке, не случилось, и только тогда Таня почувствовала саму себя, прислушалась и в конце концов решила, что все правильно и, как никогда, хорошо. Ощутив себя счастливой, она заново подарила себе свободу, к которой так стремилась и от которой всегда бежала.
Под Новый год Женя, с которым Таня уже давно с оказией развелась, прислал открытку. Он считал своим долгом не забывать первую жену. Мелким убористым почерком писал о работе, о природе, не говоря ни слова о жизни личной, которая Таню интересовала больше всего. А тридцать первого раздался звонок. Звонил ей Паша.
Разыскал он ее точно так же, как когда-то могла найти его Таня, через отдел кадров. Сбиваясь и путаясь, предложил встретится как-нибудь, так же сбиваясь, Таня обещала подумать. В том, что Павлик ее настроен романтически, она не сомневалась. А в том, что он хочет продолжения отношений, вообще была уверена. Как ни странно, злости к нему Таня не почувствовала. Радости особой тоже не было. В Танином возрасте время, как никогда, быстро стирало всяческие огорчения, насыщая память лишь вещами приятными и светлыми. Но с Ирой, единственной, с кем можно было обсудить Пашу, Таня непременно решила посоветоваться.
Подруг как таковых у Тани не было. Были знакомые, очень хорошие знакомые, но близких не получалось. Таня по этому поводу не страдала. Самодостаточность и самовлюбленность делали свое дело. Ира же была старше, опытнее и, как казалось, мудрее всех остальных. Не сколотив собственного личного счастья, на примере которого можно было давать советы, Ира руководствовалась понятиями житейской науки, по наитию угадываемой в той или иной ситуации, и часто давала действительно дельные ответы на вопросы незадачливых подруг. Мужа у Иры никогда не было, откуда взялась длинная Анечка, Таня не спрашивала.
Жила Ира пусть и в ближнем, но все же Подмосковье. Таню расстояние не остановило. Кроме того, была она всегда занята. Задумав однажды на Анином примере вырастить уникального ребенка, Ира не жалела сил. Анечка ходила сразу в три школы, в английскую, музыкальную и спортивную, и одну театральную студию. Давалось ей все легко. Английский учился по дороге в бассейн, музыке отдавалось время перед сном, роль Конька-Горбунка запоминалась еще во время репетиций. Телевизор, игры в куклы и прочие детские развлечения Анину жизнь обходили стороной. С мокрой косой под шапкой везла ее Ира домой, где по белым клавишам отстукивала девочка ровно час сонаты Бетховена. Тренеры говорили, что для удачной спортивной карьеры надо бросить музыку. В музыкальной школе все были уверены, что известная пианистка выйдет из Ани только при условии отказа от спорта. Ира не слушала никого. Она наблюдала. Прекрасно зная, что у ее ребенка нет никакого слуха, который так необходим музыкантам, она удивлялась Аниным фортепианным успехам. Еще больше она поражалась Аниным удачам в редком по тем временам синхронном плавании, понимая, что гибкости для этого вида спорта у дочери маловато. Несмотря на свою недетскую занятость, Аня не была затюканным ребенком. Распыляясь на все и ничего, она жила своей, никому не известной второй жизнью. В ней она умела ругаться матом, знала, откуда берутся дети и что у старших девочек появляются на лобке волосы. Мать Аню никогда не хвалила, даже тогда, когда та выигрывала конкурсы, соревнования и театральные олимпиады. Она лишь позволяла себе сдержанно улыбаться, когда ее дочь, как всегда, крепко, быстро и без истерик засыпала ночью. В этом и состояла ее материнская радость.