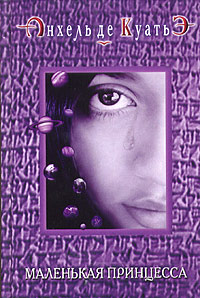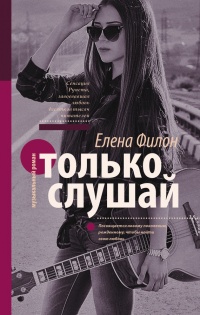Книга Все могу - Инна Харитонова
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Уже потом, повзрослев, Таня опять захотела ребенка, но руководствовалась она лишь понятиями женской состоятельности. И все-таки не так мыслила она свое материнство. Думала, будет муж, которому сообщит с радостью, а может, намеком, все свекрови, тетки, мамки захлопают в ладоши, и будет Таня носить себя как хрустальную вазу весь срок под строгие взоры переживающих родственников. Безотцовщина в ее планы не входила.
Обличающий вопрос «Кто отец?» она, к счастью, себе не задавала, зная точно, что только Паше, этому увальню, досталась Танина первая беременность. Но зла на него она не держала, корив понемногу себя. За те два месяца, которые провела она одна, с работы домой, из дома на работу, забыла она и Пашу, и Стаса, который под сенью крытых платформ Курского вокзала, не стесняясь, объявил о своей женитьбе. Таня счастливо икнула. Но из-за спины его вышла тоненькая белесая девочка, женщина-ребенок, сплошь в подростковых прыщах. Именно ей предстояло распоряжаться их семейным счастьем. Видимо, Стас неплохо относился и к Тане, что даже пригласил ее на свадьбу, но Таня таких щедрот не оценила. Попытка сдружить своих женщин – бывшую любовницу и нынешнюю невесту – Стасу не удалась. Он все еще продолжал быть одинаково для всех добрым и радушным, но в Тане начала кипеть злость и ненависть. Это черное чувство вылилось потом на нее учеников, хорошо, что глухих и немых, но все же остро понимающих перемены в своей наставнице. Свадьбу Таня демонстративно игнорировала. Стас же ее отсутствия даже не заметил. Он, как и все остальное в своей жизни, делал правильно и самоотреченно. Теперь ему предстояло заниматься семьей.
Тане тоже неплохо было бы подумать о браке. Но почему-то она не сомневалась, что отца ее будущего ребенка искать не стоит. Не представляла она, где и как будет это делать. В лагерный отдел кадров она идти не могла – гордость не позволяла. Потеряв сон, ночи напролет смотрела Таня на свое отражение в полированной створке шкафа и с каждой бессонной ночью все больше себя ненавидела. Думала о всяком: об узнавшей вдруг маме, заходящейся от новости в истерике; о работе; о нищете, хорошо прикрытой северными, но вовсе не вечными запасами. Из сумрака комнаты выплывали на нее страх и боль, боязнь такой долгожданной, но абсолютно ненужной самостоятельности, и к утру в прерывистом сне перед глазами вставало страшное слово, диссонирующее и режущее ухо. Слово это было «аборт», и вслух произнести она его не могла, немела на первой букве. Всем, что получалось, была протяжная «а-а-а-а». Не могла выговорить она его и немой ручной азбукой, пальцы не слушались, и ладонь сжималась в кулак, впиваясь длинными ногтями в кожу. Этот сжатый кулак также значил букву «а». Решение все не приходило, а сроки с каждым днем поджимали, напоминая о себе то тесным лифчиком, то календарем.
Трамвай этот был скорбного маршрута. Взбираясь по узкой своей, навеки проложенной колее, изо дня в день перевозил он грустных женщин. Все как одна они проделывали большую часть пути в молчаливой тоске, уставившись в окно. Но взгляд их отнюдь не фиксировал городскую суету, смену скудных пейзажей и других пассажиров. Подъезжая к остановке «Больница», женщины медленно вставали, переглядывались, и в этих взглядах угадывалось молчаливое согласие: «Я тоже туда». Понурым стадом вываливались они из узких трамвайных дверей, все как одна, пусть и в штопаном, но чистом исподнем, с авоськой, набитой нехитрыми женскими вещами, халатами, тапочками и сорочками, тащились к дверям самого ближнего корпуса.
Вагоновожатые не любили этот маршрут. Часто случались в пути неприятные казусы: кто-то падал в обморок прямо в мокроснежную кашу вагона, выставляя напоказ лиловые панталоны, кто-то протяжно то ли выл, то ли плакал. Высадив пассажирок у больницы, через два круга трамвай подбирал их снова, и совершенно никакой разницы не было в их лицах. Одинаково печальные, они, лишь немного кособочась, залезали обратно и были немного бледнее утреннего, но в целом никаких разительных перемен с ними не случалось. В трамвайном депо ходили слухи о его начальнике. Говорили, что его мать, сейчас уже высохшая быстрая старушка, однажды, как и все, залезла и поехала, но в дороге случилось ей видение или что-то такое, и вышла она через остановку, а спустя шесть месяцев родила нынешнего директора. Видимо, начальник всегда испытывал неоднозначные чувства в отношении этого женского маршрута. С одной стороны, обязан он был трамваю своим рождением и начальственным будущим, с другой – было ему больно за всех тех женщин, которых трамвай этот ежедневно возил на страшно-грешное дело избавления от детей.
Таня прождала трамвай долго. Уже три раза хотела она пойти домой греться, три раза передумывала и все три раза оставалась стоять. Протискиваясь между сиденьями, встала она возле окошка и только тогда ощутила на себе всю тоску этого маршрута. Осторожно разглядывая своих соседок, она безошибочно выделяла тех, кто выйдет вместе с ней и кто будет взбираться по ступенькам именно в ее двери. Но не покидало Таню чувство превосходства над ними. Ехала она не просто, как все. Ехала она к своему врачу, которая за неделю до этого и решила все Танины мытарства.
Врач была матерью Таниной ученицы, глухой девочки, отличающейся от остальных детей далеко мерцающей надеждой, редко присущей такого рода заболеваниям. Глухота могла, как говорили, пройти позже, во время полового созревания, когда одни гормоны встретятся в диалоге с другими, и первые звуки, может, услышит и девочка. Ее мама, как многие родители больных детей, постоянно как бы извинялась перед всем светом за свое неполноценное дитя и с годами приобрела соответствующие стойкие интонации извинения в общении. Особенно робка была она перед дочкиными учителями, и даже репутация вполне успешного и грамотного женского врача не избавляла ее от сутулого, заискивающего скукоживания. На Танину просьбу она откликнулась яро и уже на осмотре, когда Танино колебание, казалось, раскачивает весь мир, осторожно, вопреки врачебной этике, подтолкнула ее к решению. «Вы молодая еще, Татьяна Алексеевна, родите вы себе еще ребенка. Спешить-то здесь не надо». И Татьяна обрадовалась, будто сама этого никогда не знала, вскочила и расцеловала врача. Всю неделю самой любимой ученицей была у Тани глухая дочка гинеколога.
Женщины, выбравшись из трамвая, кинулись наперегонки к дверям больницы. Только Таня, отделяясь от всей обреченной компании, шла позади. Ей спешить было некуда. Она знала, что ждала ее там, на третьем этаже, ее добрая фея – врач. С большим оживлением, равно как очередь в гастрономе за дефицитным, занимали женщины свою очередь. Таня же прошествовала сразу в ординаторскую, откуда и была тут же выперта по причине утренней пятиминутки. Получалось, что привилегированного положения ей так и не досталось. В палате ей оставили крайнюю койку, на которую, роняя руки, она и уселась. Почти все немолодые, женщины проворно, со знанием дела переодевались, быстро, не блуждая взглядами по медицинским формам, заполняли нужные строчки своих карточек, только Таня, перегибаясь через кровать, все заглядывала к соседке, грузной белокожей женщине. Но справедливость все-таки восторжествовала. Зашла Танина врачиха, объявив, что первой пойдет Таня. Спорить никто не стал.
Только дойдя еще своими, пусть и ватными ногами до операционной, поняла Таня, что ни разу не была в больнице, не вдыхала запах карболки, не морщилась от стерильности бахил и нагромождения приборов. Взятая в плотное человеческое кольцо, она задыхалась. Впереди стояла врач, сбоку девушка со шприцем наперевес, ту, что была сзади, Таня не видела, а лишь ощущая присутствие, пугалась больше всего. Она глохла, не слышала их простых дежурных фраз. Когда чем-то холодным провели по ляжкам, а девушка аккуратно, но настойчиво взяла Танину руку в свою, охватил ее настоящий ужас. Вырываясь, пыталась пошевелить она скованными ногами и руками, но игла нашла свою синенькую жилку вены, и сразу выключили свет.