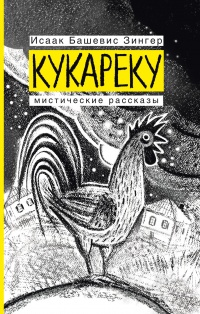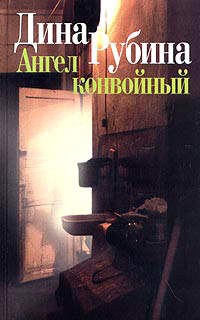Книга Бутырский ангел. Тюрьма и воля - Борис Земцов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
По неоговорённой, как-то само-собой сложившейся традиции, эту полку никто никогда ничем не занимал, и вдруг… розовая щекастая баба с соломенной чёлкой и глазами навыкат.
Тогда я, кажется, собрал в кулак всё самообладание, чтобы не отправить эту ткачиху-ударницу (как я мысленно окрестил избранницу Лёхи) в «дальняк» (так на тюремном арго называют имеющийся в камере туалет, точнее канализационное отверстие с едва обозначенным местом для постановки ног).
Ещё больше потребовалось сил, чтобы объяснить обладателю фотографии саму невозможность подобного соседства.
«Любимый образ» он убрал, но комментарии мои выслушал молча с лицом недобрым, а, главное, мало что понимающим.
И вот этому человеку объяснять, почему в обстановке, которая ныне окружает и его и меня, преобладают, царствуют, беспредельничают Серый и Бурый? Нет никакого желания!
Трижды уверен, что он просто не поймёт, о чём вообще идёт речь.
Не поймёт…
А, может быть, здесь и не надо ничего понимать, и не надо зацикливаться на том, какого цвета декорации тебя окружают?
Может быть вообще — не обращать на это внимания — и это нормально, правильно, а вот ломать голову над тем, сколько кругом Серого и Бурого, и почему нет других цветов — ненормально, неправильно?
Может быть, я вообще не то, чтобы схожу с ума, но тихо утрачиваю часть своей нормальности, и первый признак этого недуга — столь болезненная реакция на ущербность окружающей цветовой гаммы?
Что касается моей нормальности и ненормальности — время покажет, а вот, что касается Серого и Бурого, то давно испытываю желание писать два этих слова с большой, заглавной, прописной буквы.
Именно так и пишу: Серый и Бурый, Бурый и Серый.
Не то, чтобы эти слова близки к именам человеческим, но на клички, или, как здесь говорят, на «погоняла» очень смахивают.
Будто речь идёт о двух подельниках. А если подельники — значит, имело место что недоброе, неправильное, что натворили этот Серый и этот Бурый.
Соответственно, придётся им за это когда-то отвечать, расплачиваться.
Пожалуйста, подождите…
Казалось, что к концу отсиженной пятёры (ровно половина его срока), человеческого в нём осталось совсем мало.
Ну, разве что сама оболочка, каркас, на котором носилась арестантская роба.
Только и здесь перемены в глаза бросались. Разнесло Вову Петрова, будто на дрожжах расквасило. Да как-то по-бабьи: брюхо рыхлое оттопырилось, бёдра обрисовались. Зато плечи — наоборот, сузились, словно кто-то из них всё мускульное содержимое вниз вытряхнул. И походка изменилась: опять же бабья суетливая развалочка появилась. Плюс — одышка. Плюс, ранее не замечавшаяся, — привычка носом шумно воздух втягивать.
В проходняке Петровичу (такое ему погоняло благодаря фамилии поначалу досталось), особенно зимой, когда в телаге[39], уже сложно было: пробирался враскачку с кряхтением и вздохами. Ещё сложнее стало коцы[40] зашнуровывать. Когда он ради этого нагибался, сопел особенно натужно, и лицо свекольным цветом наливалось.
Разумеется, способность говорить сохранялась. Но и тут перемены налицо были. Весь его разговор на добрую половину своего содержания теперь теме еды посвящался. Да что там разговор! Вся его лагерная движуха, все поступки были исключительно с продовольствием и питанием связаны. Прежние арестантские приятели, с кем он ещё в Москве на Матроске общался, с кем по этапу шёл, с кем срок тянуть начинал, стали сторониться его, как неудобства. Потому, как весь разговор при всякой встрече в несколько совсем простых трафаретов без труда втискивался. «У тебя сахар есть? Насыпь чуток…». Или — «Говорят, тебе кабан[41] зашёл… Подбрось чего-нибудь…» Или «Ты прошлый раз салом угощал… Вещь! Отрежь ещё кусочек…»
И не столь уж далёкое вольное прошлое Володя Петров вспоминал теперь исключительно в определённом ракурсе. Про то, как в Москве при большом начальнике шоферил, каких знаменитостей близко видел, свидетелем каких разговоров быть выпадало, уже не рассказывал. Любой экскурс в долагерное прошлое к продовольственно-кулинарному аспекту неминуемо сводил.
С придыханием и причмокиванием.
Например, как некогда за сущие копейки в Госдуме можно было классно пообедать.
Какой экзотической снедью однажды в посольстве Малайзии накормили, когда он шефа с банкета дожидался.
Сколько шашлыка из отборной вырезки как-то осталось после пикника, куда он шефа возил (и всё это ему домой забрать разрешили).
Всё чаще повторялся в этих рассказах Володя Петров. Обычно дублировал сюжет, как в день, когда начальник на особо важном совещании надолго зависал, он предпринимал манёвр, казавшийся ему вершиной мудрой изобретательности. На этот день Володя отпрашивался у Шефа отбыть по семейным надобностям. Тогда же жене объяснял, что на работе забот выше крыши. Сам же ехал к матери, заранее попросив нажарить к его приезду котлет.
Не раз мне приходилось быть тем, на кого Петрович в очередном приступе откровенности вываливал булькающие желудочным соком подробности былых обжорных торжеств.
— Понимаешь, — понижал он голос до трагического шёпота, — приезжаю, а они… в сковородке шкворчат… Котлеты… Фарш пополам из свинины с говядиной… Запах ещё от лифта… Я сразу за стол… Одну, вторую, третью… Вкусно…
Здесь он почему-то делал круговое движение кистью руки. То ли очерчивал контур той самой сковородки. То ли воспроизводил траекторию перемещения котлет.
— А гарнир?
— Зачем гарнир? — удивлялся, не замечая никакого подвоха, Володя, — их же много, они… вкусные…
— Ну, а потом? — иногда у меня не получалось остановиться.
— Потом ложился… Спал часа три… Мобильник отключал… Телефона квартиры матери не знал никто… Красота…
И снова лучилось несказанным удовольствием лицо Петровича, снова без устали ходил его кадык, едва справляясь с то и дело наполняющей рот массой слюны.
Разговаривать с ним тогда ещё было можно. И слушать его тогда было ещё не в тягость. Потом со всем этим стало сложно.
Удивительно, но при своём почти религиозном отношении к еде, казённой арестантской пищи Володя почти не употреблял. Обходился лагерным ларьком, посылками из дома и щедротами семейника — в недавнем прошлом фермера из местных, которому справный харч в зону по зелёной шёл. Разве что полагавшиеся по субботам кусочек жареной рыбы и крутое яйцо непременно забирал в барак, да причитавшейся по средам микроскопической котлетой, в которой, кроме сои с пережаренной панировкой, ничего не было, не брезговал. По поводу прочих незатейливых компонентов арестантского рациона, что с ещё догулаговских времён объединялись под почти зловещим термином «баланда», он морщил нос, традиционно сопел и натужно выцеживал: