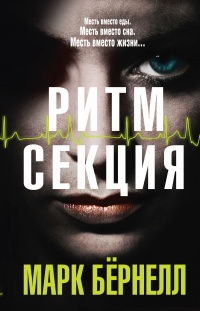Книга Цвингер - Елена Костюкович
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
От въезда, от поверженного ствола Сима перешел в середину сада и увидел чей-то силуэт через частую, в осколках выбитых стекол, решетку китайского павильона. За квадратными переплетами как раз и барствовал, развалившись, Владимир Плетнёв, поджидая свою судьбу, будущего неразлучного друга, почти близнеца, заведя ногу на ногу, откинувшись в плетеном кресле в уродливом «Хинезишес палэ», возвышавшемся на берегу задумчивого пруда без лебедей.
Плетнёв сидел и пил шнапс с королем Силезии Августом-Фридрихом-Вильгельмом.
Брюки у короля были узенькие, в полоску, на руках лайковые перчатки кремового цвета, за спиной, как у всякого добропорядочного немца в то время, болтался, точно горб у голодного верблюда, полупустой рюкзак.
То есть шнапсом угощался Плетнёв, а король, оберегая подкрашенные усы, пил только чай, чай мятный — напиток по тем временам популярный и, как говорили, пользительный для желудка, и дожидался «лебенсмиттель» — подачки из офицерского советского пайка. Попутно король пытался всучить русскому офицеру «для мамы» сделанную собственными руками безвкусную шляпку. Выяснилось, король с королевой содержали шляпную лавку. Беда была только с клиентурой в военные времена и, знаете, бомбежка… Получив отказ, король предложил, чтобы шляпентох примерила Георга, вошедшая с дедом. Кончилось тем, что милосердный дед забрал это уродство у короля за тушенку. Думал — может быть, Лере. Потом, рассмотрев, содрогнулся и, увы, решил не везти шляпу в Киев вместе с остальными трофейными прекрасностями. Огорчительно! Можно было бы сегодня выставить в исторический музей!
Дедик с Лёдиком склеились навсегда в тот день. Написали друг другу прорву писем в сорок шестом, когда Плетнёв еще не был демобилизован и томился в культурном отделе советской военной администрации в Карлсхорсте. Дедовы письма, как и некоторые рукописи деда, хранились дома у Плетнёва и попали в кагэбэшные мешки, когда была обыскана квартира и конфискован беспорядочный плетнёвский архив.
Переписывались и после войны — Жалусский почти не бывал дома, в Киеве. Приходилось ездить по провинциальным фабрикам: в антисемитскую кампанию он лишился работы в театре, зарабатывал промышленной графикой — этикетки, марки. Преимущественно шоколад и наклейки и ярлыки для крымских вин.
А с пятьдесят четвертого дедик с Лёдиком уже «оперились» (перья греют и кормят нас, похохатывал Лёдик), заматерели. Теперь они писали друг другу из домов творчества: Малеевки, Переделкина, Ялты и Дубулт. Это когда ездили порознь. Но они ездили почти всегда вместе. Рвались из Киева, от суетни, погрузиться в рабочий покой. Чуть разместятся, тут же вваливается шумный Лёдик из соседней комнаты, непременно с бутылками в саквояже и со старенькой мамой, ухваченной за подмышку.
На Викину память, как на ногу, налеплена чешуйка. Мокрая раковинка с хвоста русалки. Йодистый хвощ внутри. Рижское взморье. Юрмала, Дубулты. Дед вышагивает по пляжу, опирается, как на трость, на зонт. Зонт дырявит пресный песок. На плече идущего хрипит спидола. Антенна наведена на море. С моря, из Швеции, идет незаглушенный радиогул.
Табун литераторов со спидолами фланирует вечером по штранду. Взрослые обсуждают суд над Синявским и Даниэлем. За что их приговорили, арестованных писателей, шепотом спрашивает Виктор деда.
— А за писательство! Вот письмо в их защиту подписываем.
Совершенно непонятно. А за подписательство? За подписательство не арестуют, часом, Симу и его друзей?
Вика от испуга в полуобмороке. Он помнит Лерины с кем-то разговоры об аресте отца, брата. Слушал из обычного укрытия под столом, как это бывает. Приходят, уводят. Книги сбрасывают. Книги топчут! Остается сирота в одиночестве, несхваченный, потому что под столом не замеченный. Это он, Вика, этот сирота. Под край скатерти вскользнули изуродованные книжки. Тянется к ближайшей, открывает…
Но взрослые уже о чем-то другом хохочут на шестом или седьмом километре вечерней прогулки. Белесая балтийская ночь. Дамы беседуют и о политике, и о практическом: о покупке янтарных брошей-сакт, перчаток зимних, дубльсатина подкладочного. Всей компанией на рижский базар, разместившийся в бывших ангарах для дирижаблей. В этой гомерической декорации голоса почти не слышны, они летят в подкупольное пространство и налипают на витраж. Стекла явно липковатые: копченой рыбой там просадилось все. Вика смотрит с недоумением на стоящую вертикально в сметане ложку. Некрашеную крестьянскую шерсть продают в пасмах. Косматая пасма, с неприязнью обкатывает Вика во рту уродское слово. На рынке Боровскому (или жене Боровского?) приходит идея сделать именно из этой шерсти занавес таганского «Гамлета».
Вечно помнит нос тот йод, ступня — влажную плотность песка, уши — хлюпанье подпузыривающей влаги под подошвой и заставки «вражеских голосов». Взор — хмурый горизонт. Утоптанный песок, дырки, зонт.
Песчаная дорожка в московском парке, зонт, дыра. Следы каблучков Тошиных и его собственных кроссовок. Стоп. Мы же были в Юрмале, в Дубултах. Назад, князь! Не Тошины следы вспоминай, а Лерины.
Ветер тянет от водорослевой гряды. В розовом на закате бору стволы корабельных сосен — мачты. Гавань, ветрила кораблей. На игольном настиле в шалаше коптят салаку, и дым обтекает развешанную рыбу, проникая насквозь.
В детский юрмальский период Вику интересовали только книги и конфеты. Обертки от батончиков «Парус» и «Таганай» втискивались в расщелины диванов. Он готов был читать что угодно — книги, газеты, ценники, опознаватель «Птицы Европы», пособия по пылесосу, оторванные листки календарей, ярлыки на изнанке одежды, трещины на штукатурке, мацу. Азартно читал все подобранное в дедовой мусорной корзине. К изумлению взрослых, воспроизводил по памяти адреса на конвертах и даты штемпелей.
Дедовский мусор был уютный. Читать — не мучительно. Не то что ужасные детские сказки. Щука глотала оловянного солдатика, ночные кошмары месяц. Чего стоил волк в бабулиных очках. В Лериных. Читая, Вика стопорил дыхание на минуту, а то и больше. Мама пугалась. Вскрикивала, заводилась, полыхал скандал. Взрослые завели привычку проверять, дышит ли Виктор. Каждые полчаса кто-нибудь по этому поводу возникал. Ну, чего вам, дышу. Ну а теперь воздухом! Ну а я чем дышу. Нет, Вика, свежим! Покорно тащился за колонной взрослых по кромке воды. На ходу пытался прочесть рифленые каракули прибоя. Чуть понимал смысл, тексты прерывались: загорелая девочка замазывала письмена и выкладывала из песка русалок. Хвосты русалок гарнировала ракушками. И при этом дразнилась:
— У тебя, Витька, вот такие, как эта раковина, уши разляпистые.
Он нашел для этой Тамарочки выгнутый тоже ракушкой, или ушком, янтарь. Преподнес ей, попросил не затаптывать записи прибоя. Тамара назло поскакала по стенограммам, янтарь швырнула, попала в ногу престарелой Лёдиковой маме. А та в панаме и очках пробасила со скамейки загадочные слова: «Окаменелая моча рыси, полагал Демокрит».
По фигурным строкам прибоя топала и глухая Мариэтта Шагинян. У нее под мышкой были зажаты громадные наушники. Шагинян трижды в день усаживалась с Лёдей, дедей, Зинаидой Николаевной, Лерочкой и Викой за один и тот же стол в столовой Дома творчества. Официанты шалели от ее капризов. Успокаивали ее только д’артаньянские остроты Лёдика. С Лёдиком слабенькая общая нотка у нее имелась, хотя какая — Вика в оные времена не понимал.