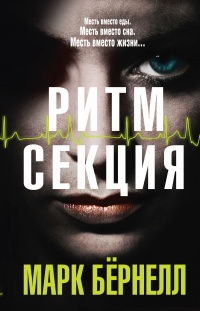Книга Цвингер - Елена Костюкович
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Как мог выглядеть Дрезден сверху? Сима в реальности увидел его в первые дни мая. А четырнадцатого февраля — ну как это могло смотреться? Глаза закрываем. Под веками проступает пересвеченный и пересохший, все время рвущийся фильм.
Утро было хмурым и прохладным. Над городом угрюмо нависали грязно-серые тучи. С земли к этим низким тяжелым облакам, клубясь и мешаясь с ними, тянулись завесы дыма, и было непонятно — то ли облачная, то ли дымная пелена затянула небо. При тусклом свете огонь уже не выглядел грозным, как ночью. Бомбовый ковер это называется. Bombenteppich. Поначалу отдельные, а потом и сплошные кострища дымящихся руин.
Люди шли с полубезумными глазами, все поодиночке. Шли только из города. Кое у кого были узелки, но большинство с пустыми руками. Объединяло их одно: у каждого свисал на груди, почти у самого подбородка, скинутый за ненадобностью марлевый респиратор. Пришельцам из погибших кварталов тот воздух, который был на окраине, казался чистым.
Неожиданно в поле зрения попали две голые женщины. Молодые, красивые, прекрасно сложенные, чуть подогнув ноги, они лежали на асфальте в затылок друг другу и, казалось, спали. На ноге одной из женщин были видны обрывки вискозного чулка и дорогая модная туфля с полуоторванным высоким каблуком. Заметных ранений не было. Даже прически, казалось, сохраняли свежесть. Тем не менее обе женщины (сестры, подруги?) были мертвы. Смерть застала их посреди улицы, прямо на трамвайных путях, и теперь они лежали спокойные, равнодушные к своей наготе и к всему окружающему. Эта яркая нагота воспринималась как нереальная. Но не было ничего удивительного. Их убило мощной взрывной волной, которая сорвала с них одежду.
У пережившего это утро и выжившего так билось сердце, что не удавалось замедлить стук. Тогда он подошел и прикурил от покосившегося, обгоревшего с одной стороны и еще тлевшего телеграфного столба. Идиотская бравада, театр. В кармане лежала безотказная, хорошо заправленная бензином зажигалка. Воистину в минуты перетрясок инфантильность человека не имеет границ.
Как знать, какие еще безрассудные жесты были? И проявления слабости? И бормотание шепотом? Вика почти переселился во «вторую жизнь», которую монтировал из чужих отрывков и собственных грез. Забыл, кто он и где он. В чужую далекую память проник и сумел там подслушать: пока дед ходил-искал, поизлазил все подполы и повскарабкивался на чердаки, охотясь за мадонной своей Сикстинской, исползал все пропыленные катакомбы, в ушах у него не утихал привязчивый куплетец: «Ты сказала — у камору, не сказала — у котору…»
Вот-вот, в котору камору запроторили картины аккуратные немцы?
В котору, дед узнал благодаря Георге Ранкинг. Как мы знаем, она отдала Жалусскому немую карту. Как Сима к немке подобрался? По собственному ли почину она указала русским тайный ход? Сама ли сказала, в котору идти камору? Или, ну что там, дед ее пугал? Пытал? Может быть, обольстил? Он, судя по бумагам, арестовал эту немку? Посадили ее в конце концов? Расстреляли? Отпустили?..
Да вот же о ней. Еще один желтоватый и шершавый лист. Это пишет дед. Роман? Дневник? Интеллигентная дама принимает Симу Жалусского вечером, с французским коньяком с разбитого склада, в квартирке, выгороженной из здания «Альбертинума». Состоялось или нет великое слияние, союз душ? Не наше дело. Кто бросит камень. Неужели они часа радости не заслуживают. За столько лет и столько месяцев одиночества, войны.
У Георги новоселье. Георга развернулась в полный декораторский размах. За неделю оборудовала в музее себе квартиру. Нашла где-то путных маляров-альфрейщиков, мраморщиков и паркетных укладчиков. Все они одуревали без работы и были рады поучаствовать в чем-то, что делалось по старым правилам и перворазрядно. Панели прихожей и потолки были отделаны золотистой оливковой древесиной. На подоконники и телефонную нишу пошли обломки красной мраморной отделки вестибюля. Шероховатость и зернистость штукатурки оттенялись на стенах цветом старой слоновой кости. В прихожей висели гуаши — зарисовки Помпеи, которые Георге привезли из Пильница. В углу улыбчивый «Мальчик на дельфине» делла Роббиа, а за письменным столом самая вычурная из бронзовых статуй коллекции, венецианский «Мелеагр» конца XVI века.
Маньеристические скульптуры, гибкие тела. Они, казалось, прибежали в квартиру из пышного сада. Прежний комендант полиции, снова заступивший на работу в Дрездене, прислал Георге на телеге два олеандра выше человеческого роста: красный и белый. Красный затенял цельное окно у письменного стола, а белый стоял у прохода в спальню. Огромная гортензия расположилась у трехступенной лестницы на террасу, где полыхали турецкие бобы. Красный и синий вьюнок оплетал желтые стены. На грядках у стен грудились помидоры, кольраби, посаженный для коллег табак. В углу стояла клетка с кроликами. Во всех проходах подсолнухи, точно часовые.
Над карнизами еще сохранялись остатки старинной росписи со сценами Помпеи. Алебастровая ваза в миртовых кустах.
Что это все-таки? Повезет — скоро поймем. Во Фракии, в Болгарии, в стране, где рекой течет незабвенный «Слнчев Бряг», сбрызнувший московскую Викину любовь, сохранились остальные дневники и записи деда. Они расскажут, что на самом деле происходило в те самые дни. Кто дал ему карту? Георга? Все ли сокровища были найдены? Чем дело кончилось с мелкой пластикой из музея «Зеленых сводов»? Фальсифицировалась ли отчетность? Какая в официальной версии доля правды о случившемся — и доля лжи?
Бумаги, получается, живы. Но как же это могло быть? Те бумаги, что конфискованы у Плетнёва? Болгарка сказала, архив датирован семьдесят третьим годом. А в Киеве плетнёвский архив был арестован КГБ в семьдесят втором. Ошибка даты? Или, ну, кто знает, какой-то другой совместный архив, военный период, общие их дни в Дрездене?
Жалусский и Плетнёв впервые встретились именно в Дрездене. В парке замка Пильниц. Тогда и завязались в узел нити их судеб. Виктор зажмурился — и, не размыкая век, увидел эту сцену знакомства, как в кинохронике.
В тот день перевозили наскоро зафиксированные картины с дрезденских боен в Пильниц. Перевозкой занималась трофейная бригада. Дед с Георгой отправились посмотреть. Георга была под наблюдением, Сима — отстранен. Временно, утешал он себя. Временно налетела орава новых людей. Разберутся, поймут, что и к чему.
— Не копырзись, милый, — вставила советец с небес круглоголовая Ираида.
Первая полуторка с грузом, обогнув дворец, въезжала в подкову двора. Было еще не понятно, какие под картины отведены помещения.
Увидев полевую кухню, солдаты отпросились пообедать.
Присев на лежачий ствол, Сима и Георга глядели, как быстро текла Эльба. В китайском и в горном павильонах, поразивших Симу уродством (коринфские колонны к китайской загнутой крыше?), были выбиты все стекла. Картины свозили и складывали. Окна забивали досками. В конце пильницкого парка торчало непонятно что, оно отцветало, под ним возвышалась гора пурпурных, гофрированных шелковых лоскутов. Знаменитая пильницкая камелия. От жаркого ветра, принесенного сверху из Дрездена, дерево, как им сказали, в этом году цветет подряд два месяца, с марта, изобильными каскадами снова и снова взрывающихся раскидистых пламен.