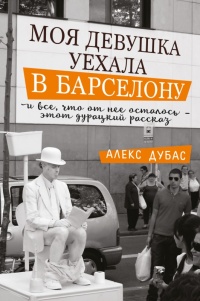Книга Хибакуша - Валерий Петков
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Высокие ели по сторонам.
Чехова с «Дачниками» вспомнил, когда в первый раз увидел.
Вильча ближе к Чернобылю, целесообразней было бы выгрузиться там, но до неё не доехали. Причин я тогда не знал, задумываться особенно времени не было.
Вскоре понял – радиация корректировала и подчиняла непредсказуемой реальности. Собственно, главной реальностью была радиация, а что она вытворяла сейчас вокруг, по какой причине и каковы последствия, не было ведомо никому.
Жарко, безоблачно. За трое суток пути двигаться разучились, а уж тем более – быстро. Приземлились и надо учиться ходить. Поначалу вяло включились, потом пошло веселее, но тут солнышко повыше поднялось. Стало душно. Ремни сняли, гимнастёрки расстегнули – «партизаны»!
Технику выкатили по сходням металлическим. Стали строиться в безветренном мареве, ощущая постоянную жажду. А тут ещё и респираторы раздали.
Погрузились по машинам, выехали на разбитую дорогу. Пот по лицу, голове, влажнели края респираторов. Испарина по всему телу, гимнастёрки потемнели. Нещадно печёт, словно под большой лупой, фокус наведён прямо на нас, температура возрастает, и сейчас вспыхнет гимнастёрка на плечах, спине. Потом синим сполохом, мгновенной пробежкой по рукавам – тотчас займётся безжалостный огонь, и станет невыносимо, безумно горячо, потому что сшита форма из листов непослушной жести, ранящей кожу, прикасается она грубо к телу. Лихорадочная мысль в кипящей голове – скорей бы уж закончилась эта пытка раскалённой духовкой.
День перевалил на вторую половинку. Не спрятаться от обжигающего солнца. Прохладу несёт такой желанный, но слишком лёгкий, ленивый ветерок.
Ехали медленно. Ротный впереди с экипажем. Я во втором «козлике».
Молчали. Пётр сосредоточенно смотрел на дорогу. Переднее стекло приподнято. Сзади, на лавочках, рядом со стационарным прибором ДП-3 – сержант Полищук и рядовой Эртыньш. Молчали. Воротники расстегнули, наслаждались набегающей свежестью. Кратковременной, зыбкой и ставшей вдруг ненадёжной, как всё происходящее вокруг.
Чувствовалась усталость, измотанность жарой, тревоги не было. Апатия пригибала ко сну.
– Полищук, – повернулся назад, – Степан Андреич. Шпрехен зи дейч, Степан Андреич!
– Я, товарищ лейтенант! Сержант Полищук! – наклонился: – Прибыл по вашему приказанию.
– Случайно родом не с Полесья?
– Возможно! – заулыбался широким лицом. – Трошки надо обмозговать этот увопрос.
Потом я глянул на небо. Белые ризы подвижных облаков очень высоко трепал едва приметный ветерок, весёлый и легкомысленный. Невесомые, на первый взгляд не опасные, он уносил их в даль океанской, безмерной сини, белой от солнца посередине.
– То поле, то лес, – думал устало, – одно слово – Полесье! Песок и прохлада речная. Хорошо – не тундра.
Странная тишина извне выключала звук мотора. Чего-то не хватало в этой благостной картинке. Вдруг понял.
– Пустынная дорога. Грейдером обскоблены обочины. Странный мусор там и сям, непривычный здесь, в таком количестве. Брошенная гражданская одежда. Детские тетрадки ветер листает лениво. Похоже на лихорадочное бегство.
Незримое присутствие многотысячного количества людей, в панике убегавших совсем недавно по этой дороге. Туда, откуда прибыл эшелон.
Комбайн завалился на обочину, видно, пропускал кого-то, да не вписался в габариты. Два оранжевых «Икаруса», друг за другом, в кювете замерли кривенько. Дверцы закрыты. Никого рядом нет.
Раздавленный посередине глобус. Тоненькие стеночки яичной скорлупкой, коричневые изнутри, пустые и сиротливые, часть материков исчезла, уже не сложить нормально, и не видно рядом фрагментов. Пропали Индия, Пакистан, Казахстан, европейская часть СССР…
Бегство или… эвакуация? Слово всплыло в памяти и озадачило своим приходом. Мы туда, а кого-то оттуда уже вывезли.
Разгар дня, но что-то мешало принять его в обычном, белом свете. При обилии звуков, их-то и не хватало – именно тех, что делают мир звонким, привычным – и возникала парадоксальная тишина. Она раздваивалась. И сразу становилось непонятно – почему так происходит со звуками, породившими эту тишину.
Что-то умерло и вызывает горечь, а про то, что зародилось заново, ничего не известно.
Или это всего лишь пекло и обильный пот?
Птицы – не поют! Вот что будоражило, держало слух в напряжении.
Я так и не смог к этому привыкнуть. Просто оглох на какое-то время. «Беруши» вставил и оглох.
Потом – восстановился слух. И я радовался этому, как ребёнок, благополучно вынырнувший с большой глубины.
Спустя много лет я оглохну реально. Целых полгода не буду слышать, и тогда проявится в памяти то давнее.
Пожилая врач поставит диагноз:
– Сужение ушных каналов. Следствие вашей командировки.
Тогда я стану слышать иначе: как глухо отдаются во мне собственные шаги, и всё вокруг будет восприниматься так, словно стою под душем в шапочке для плавания и все другие звуки пробиваются через плотную резину, становясь словно резиновыми, тягучими.
Несколько месяцев врач будет мной заниматься. Властно, но корректно, не давая впасть в уныние и отвергая мысль о том, что навсегда останусь глухим.
И вылечит.
* * *
Райцетр Полесское остался справа.
По просёлочной дороге выехали к селу Буда-Варовичи, немного совсем до Вильчи не доехали.
Много юной зелени, нежной в нарождающемся лете, ещё не обожжённой, не успевшей пожухнуть и утомиться от солнца. Сиротливые поля. Оглушительно пустынно, в деревеньках никто не выбегает навстречу, нет привычного движения, и ожидание не оправдывается, разочаровывает. Вроде бы день в разгаре, но где люди, живность? В стороне небольшое стадо. Коровы чёрно-белые плетутся, хвостами отмахиваются от слепней. У одной обрублен хвост, похожа на громадного фокстеръера. На полморды чёрная капля, несуразной, клоунской слезой наехала. И всё вместе – так странно.
Мальчик с сумой через плечо, под деревом, прутом помахивает. Глянул вдогонку равнодушно, без всякого интереса. Видно, не первые тут проезжают.
Какая-то женщина от калитки из-под ладони высматривает тревожно – что там движется, косынку на голове поправила.
Изредка планируют аисты. Парят размашисто, без видимых усилий, чуть-чуть замедленно, странно, усиливая чувство одиночества. Чёрно-белые, японским иероглифом. Перьями шевельнёт на кончиках крыльев, словно пальцами растопыренными, и меняет направление полёта.
Легко, как дыхание.
Почему-то першит в горле, что-то происходит в воздухе, с давлением. Острое покалывание на кончике языка, будто контакты на батарейке лизнул и не проходит, кислинка осталась, отвлекает.
Жарко, много пьём воды.
Приказано остановиться. Красивая лесная поляна. Дальше лес, так заманчиво пройти и накрыться его невесомой тенью, упасть в прохладную, упругую траву, чтобы стала она травой забвения. В мягкую, как перина пуховая, нежную, брюшком ласкового щенка, в дурманящие ароматы зацветающей растительности. Уснуть, забыться, а потом встать с ясной головой и пойти на речку, плавать долго, до дрожи тела от свежей влаги, до синеватого отлива пупырчатой кожи… И раствориться в этом тягучем, медовом настое, сойти с ума от его простой, могучей силы, а потом встряхнуться и жить долго-долго, понять, что вот это – главное, а не нытье, страдания невесть по какому поводу, поиски призрачного совершенства. Покаяться, что ерундой занимался много лет… Из Эдема изгнали супругов не за то, что знают всё, ну – вкусили от Древа Познания, не прегрешение это, гордыня, а потому что не покаялись вовремя, не раскаялись, оставили в себе занозу, чёрную метку гордыни…