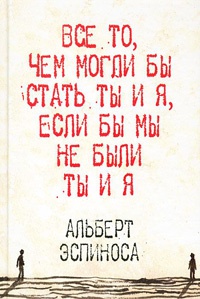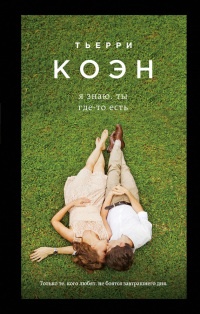Книга Мое имя Бродек - Филипп Клодель
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Он еще раз посмотрел на потолок, потом снова повернул ко мне свое ужасное лицо. Больше ничего не было слышно, ни шагов, ни голоса Эмелии. Федорина не обращала на нас внимания. Натирала картошку и лепила, крутя в руках, маленькие оладьи – Kartfolknudle, – которые затем обжарит в кипящем масле и подаст нам, предварительно присыпав семечками мака.
Оршвир прочистил себе горло.
– Не слишком одиноко?
Я отрицательно мотнул головой.
Он, казалось, подумал, затянулся своей сигаретой и поперхнулся. Его физиономия покраснела, как вишни-дички, зреющие в июне, а глаза наполнились слезами. Наконец кашель стих.
– Нужно что-нибудь?
– Нет.
Оршвир провел своей ручищей по щекам, словно бреясь. Я все думал, куда он клонит.
– Ладно, тогда я тебя оставлю.
Он произнес это с колебанием. Я посмотрел ему прямо в глаза, пытаясь увидеть, что там, но он довольно быстро их опустил.
И тут я услышал от себя странную фразу, которая вовсе не казалась моей, потому что прозвучала довольно угрожающе.
– Тебя ведь это устраивает – делать вид, будто они обе не существуют? Устраивает, верно?
В результате после этой фразы Оршвир окончательно умолк. Я видел, что он пытается обмозговать сказанное, вертит во все стороны слова, которые я произнес, пытаясь как-то увязать их между собой, но ему это наверняка не удалось, поскольку он поднялся одним рывком, взял свою кепку, нахлобучил ее на голову и ушел. Закрываясь, дверь коротко и резко мяукнула. И вдруг благодаря этому простому маленькому звуку я увидел себя по ту сторону этой двери, два года назад, в день своего возвращения.
Все те, кого я встретил, войдя в деревню, смотрели на меня круглыми глазами и широко разевали рот, однако не проронив ни слова. Некоторые убегали к себе домой, чтобы сообщить новость о моем возвращении, и все поняли, что меня надо оставить одного, что пока не надо задавать мне вопросов, что единственное, имевшее для меня значение, – это дойти до двери моего дома, положить руку на дверную ручку, толкнуть дверь, услышать ее короткий скрип, войти к себе и снова обрести ту, кого любил, о ком не переставал думать, взять ее в свои объятия, стиснуть ее крепко, до боли и соединить, наконец, ее губы с моими.
О, эти жесты, этот путь, эти несколько метров – сколько раз проходил я в своих грезах! В тот день, когда я, трепеща всем телом, толкнул дверь, мою дверь, дверь моего дома, мое сердце так колотилось в груди, словно готово было пробить ее. Я даже подумал, что мне не хватит воздуха, что я умру там, переступив через порог, умру от переизбытка счастья. Но вдруг мне привиделось лицо Цайленессенисс, и я буквально застыл посреди своего счастья. Это было так, словно мне за шиворот высыпали полную пригоршню снега. Почему же в тот миг лицо этой женщины вынырнуло откуда-то из меня и заплясало перед моими глазами?
В последние недели войны лагерь стал еще более странным местом, чем был до сих пор. Его беспрестанно сотрясали противоречивые слухи, налетавшие как порывы ветра, то горячие, то ледяные. Новоприбывшие шептали, что война вот-вот закончится и что мы, пресмыкавшиеся во прахе и похожие на трупы, окажемся на стороне победителей. И тогда в глазах живых мертвецов, которыми мы стали, снова появлялась крошечная, давно исчезнувшая искорка, зажигавшая слабый свет. Однако стоило охранникам хоть на несколько секунд проявить замешательство, как они тотчас же прогоняли его с помощью привычного зверства, и, будто подтверждая, что они все еще тут господа, принимались за первого же из нас, кто попадался им под руку, обрушивая на него удары палок, сапог, прикладов, втаптывая в грязь, словно отбросы, или будто пытаясь стереть какой-то след. Но все равно их нервозность и постоянная озабоченность на их лицах наводила нас на мысль, что и в самом деле что-то происходит.
Охранник, который был моим хозяином, больше мной не занимался. Хотя раньше ему неделями нравилось каждый день надевать мне на шею большой кожаный ошейник, пристегивать к нему плетеный поводок и так вести меня через весь лагерь – я впереди, на четвереньках, а он вслед за мной на своих двоих, уверенный в себе. Теперь я его видел только во время раздачи корма. Он будто бы украдкой приходил к конуре, где я ютился, и выливал два черпака хлёбова в мою миску. Но я прекрасно чувствовал, что эта игра его уже не забавляет. Его лицо посерело, а лоб отныне прорезали две глубокие морщины, которых я прежде не видел.
Я знал, что до войны он работал бухгалтером, что у него была жена и трое детей, два мальчика и девочка. И никакой собаки, только кошка. Внешностью он обладал вполне безобидной – робкий с виду, бегающие глаза, маленькие ухоженные руки, которые он методично мыл несколько раз в день, насвистывая военный марш. В противоположность многим другим охранникам он не пил и никогда не посещал бараки без окон, где в распоряжение охраны предоставлялись женщины-узницы, которых мы никогда не видели. Это был обыкновенный человек, бледный и сдержанный, всегда говоривший ровным голосом, не повышая тона, но который дважды, не поколебавшись ни секунды, убил на моих глазах хлыстом из бычьих жил узника, забывшего поприветствовать его, сорвав с головы свою шапку. Его звали Йосс Шайдеггер. С тех пор я не раз пытался изгнать это имя из памяти, но мы над ней не властны. Ее можно лишь усыпить.
Однажды утром в лагере случилась какая-то суматоха, слышался шум, гам, кто-то выкрикивал приказы, кто-то задавал вопросы. Охранники метались кто куда, собирали свое снаряжение, грузили на тележки множество вещей. В воздухе чувствовался какой-то другой запах, кислый, цепкий, перекрывавший даже зловоние наших несчастных тел: это был запах страха, переметнувшегося на другую сторону.
Охранники в своем крайнем возбуждении не обращали на нас никакого внимания. Раньше мы были для них всего лишь рабами, но в то утро совсем перестали существовать.
Я лежал в конуре, в тепле, прижавшись к животам догов, и смотрел на это любопытное зрелище беспорядочного бегства. Следил за каждым движением. Слышал каждый оклик, каждый приказ, и эти приказы нас уже не касались. В какой-то момент, когда бо́льшая часть охранников уже покинула лагерь, я увидел Шайдеггера, направлявшегося мимо конуры к ближайшему бараку, где находилась канцелярия службы учета. Вскоре он вышел оттуда с кожаным мешком, наверное, с документами. Увидев его, один из догов залаял. Шайдеггер посмотрел на конуру, остановился и, казалось, заколебался. Огляделся и, удостоверившись, что никто за ним не наблюдает, быстро подошел к конуре, встал передо мной на колени, порылся в кармане, достал маленький, хорошо знакомый мне ключик и дрожащими руками открыл замок моего ошейника. Потом, не зная, что дальше делать с ключом, вдруг бросил его на землю, словно он обжигал ему пальцы.
– Кто знает, кому за все это платить?..
Шайдеггер пробормотал эти жалкие, лишенные достоинства слова – слова бухгалтера, в конечном счете, – и впервые поглядел мне прямо в глаза, ожидая, быть может, что я дам ему ответ. По его лбу струился пот, а кожа была серее, чем обычно. На что он надеялся, делая этот жест? На прощение? Мое? Он застыл на несколько секунд, умоляюще и боязливо уставившись на меня. Тогда я залился долгим, очень долгим лаем, тоскливым и зловещим, который подхватили оба дога. Шайдеггер внезапно в ужасе вскочил и убежал.