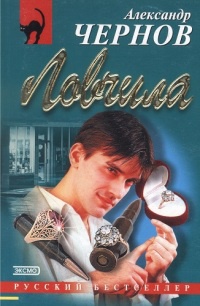Книга Минута после полуночи - Лиза Марич
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Сначала вышла из строя видеокамера за сценой. Узкий коридор за кулисами с дверями гримерок «простреливался» насквозь, вплоть до артистического входа, расположенного с обратной стороны здания. Перед монитором постоянно дежурил охранник.
Алимов расстроился, но предчувствия беды не ощутил. Камеру пообещали отремонтировать вне очереди, а до этого времени Вадим Александрович решил лично присмотреть за подопечными.
Он устроился в глубине темного зала, обнял спинку переднего сиденья и, уткнувшись подбородком в пыльный бархат, наблюдал за милейшими людьми, находившимися под подозрением.
Прекрасная Анжела, как обычно, пела con fuoco[6], в полный голос, широко и празднично, никогда не уставала и не обращала внимания на двух постоянных слушателей — Алимова и Стаса Бажанова. Закончив петь, она спускалась в зал, садилась в стороне от всех и погружалась в какие-то невеселые раздумья. Сегодня она была на удивление тихой: не подпускала шпильки в адрес примы, не цапалась с Маратом, не обратила внимания даже на высокую фигуру Красовского, появившегося в зале.
Извольская репетировала совершенно иначе: собранно, скупо, расчетливо. Она становилась за стулом концертмейстера и пела sotto voce[7], словно обращалась к Мире с негромким, доверительным монологом. Иногда Извольская останавливалась, молча стучала пальцем по раскрытому клавиру и повторяла отрывок снова, но уже с другими интонациями. Она никогда не объясняла Мире, что нужно делать, — женщин объединяла телепатическая связь, дающаяся годами совместной работы.
Марат Любимов пел в полный голос, как и прекрасная Анжела. Но в отличие от блистательной амазонки быстро выдыхался, терял вдохновение, начинал спотыкаться, ошибаться, капризничать, хамить. Обычно он винил во всем Миру, та не возражала, только усмехалась как-то особенно красноречиво и выразительно. От этих усмешек Марат зверел, с него мгновенно слетала интеллигентная маска и обнажалось истинное лицо мелкого склочника, сплетника и хама.
Анатолий Васильевич Сперанский пел quasi monumento, то есть монументально, добросовестно и добротно. Быстро выучил не только свою партию, но и партии партнеров, и подсказывал им, когда случались мелкие заминки.
Наконец, Извольская захлопнула папку с партитурой и громко объявила:
— Перерыв! Идемте пить чай!
Чай пили примерно в половине первого на лужайке позади особняка.
Это было любимое место отдыха артистов. На ровной бархатной траве разбросаны легкие плетеные кресла, расставлены столики с чайной посудой, блюдечки с нарезанным лимоном и тарелочки со сладостями. На отдельном столе отдувается паром расписной тульский самовар, два чайничка с черной и зеленой заваркой накрыты плотными ватными колпаками.
Шезлонг, в котором обычно отдыхала прима, стоял особняком в тени большого разноцветного зонтика. Рядом — столик с чашками и хрустальной вазочкой, наполненной прозрачным горным медом. Извольская пила чай только из собственного термоса.
Приму в театре не то что не любили — сторонились. В отличие от прекрасной амазонки, умирающей от любви и сгорающей от ненависти, Извольская держалась так, словно ходит по облакам: безучастно пережидала частые артистические перебранки, не замечала выходок прекрасной Анжелы, пропускала мимо ушей редкие шпильки Любимова. Но стоило ей запеть — и все преображалось. Извольская становилась нервной, собранной и ужасно требовательной. Цеплялась к партнерам, не прощала малейшей шероховатости и требовала совершенства в каждом такте.
— Что случилось с камерой в коридоре?
Алимов оглянулся.
Холодноватые серые глаза мецената мерцали чуть ярче обычного. Красовский вышел из театра последним, следом за советником по безопасности.
— Пока не знаю, — ответил Алимов тоже вполголоса. — Надеюсь, это просто техническая поломка. Вечером она будет на месте. Не волнуйтесь, Никита Сергеевич, я контролирую ситуацию.
— Надеюсь, — сухо обронил Красовский и, слегка раскачиваясь, двинулся к шезлонгу, на котором отдыхала Извольская. Глаза примы были закрыты, теплый майский ветерок мягко шевелил ее волосы.
Странные отношения, подумал Алимов, наблюдая, как Красовский садится в кресло возле шезлонга. Извольская держит мецената на расстоянии вытянутой руки, всегда называет по имени-отчеству, приезжает и уезжает одна. Хотя все в театре знают, кому принадлежит городской номер телефона, по которому патрона можно найти ночью. Артисты всё знают.
Извольская открыла глаза, что-то сказала или спросила. Красовский оглянулся на чайный столик и приподнялся. Но тут подоспел Марат Любимов, вертевшийся рядом, и быстрым шагом направился к входу.
Советник вошел следом за ним в небольшой холл и остановился, наблюдая.
Любимов сунул ключ в дверь гримерки Извольской, и дверь сразу распахнулась. Марат с удивлением посмотрел на ключ и вошел.
Обратно он вынырнул буквально через минуту со знакомым синим термосом в руках. Попытался запереть дверь, но ключ упорно не желал поворачиваться.
— Оставьте, Марат, я закрою! — громко сказал Вадим Александрович.
— Спасибо.
Марат упругим шагом пронесся мимо советника. Алимов подошел к двери, присел на корточки.
Ключ вошел в замок неплотно. Треугольная зазубрина отчетливо виднелась под круглой головкой.
Алимов попытался вставить ключ до конца, но не сумел. Вынул ключ, осмотрел сначала его, потом узкую щель замка и нахмурился. Поднялся на ноги и, ускоряя шаг, пошел к выходу.
Марат уже налил чай из термоса в чашку и протянул ее Извольской. Та поблагодарила, приподнялась с шезлонга. Красовский, ковырявший ложечкой кусок торта, вдруг закашлялся, побагровел, выронил блюдечко и схватился рукой за горло. Артисты начали оборачиваться. Извольская торопливо сунула меценату нетронутую чашку.
Ощущение опасности пробило советника насквозь, как копье.
— Нет! — отчаянно крикнул Алимов. — Стойте! Не пейте!
Но Красовский уже сделал большой глоток.
Над лужайкой повисла мертвая театральная тишина. Все застыло, и природа, и люди. Меценат выронил чашку и с каким-то странным достоинством опустился на одно колено. Застыл, покачиваясь, и медленно упал на бок, словно крестоносец, поверженный в бою. Тяжелая трость беззвучно легла рядом.
— Никита! — закричала Анжела и бросилась к нему.
Извольская зажала рот обеими ладонями. Ее лицо было совершенно белым, серо-зеленые глаза сверкали яростно и ярко.
Москва, ноябрь 1884 года.
AFFETUOSO[8]
Елизавета Прокофьевна сидела за столом, уставленным серебром, цветами, фарфором, и крошила хлеб в пустой тарелке. Горничная одно за другим уносила нетронутые блюда.