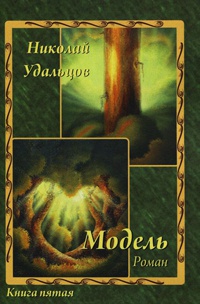Книга Параноики вопля Мертвого моря - Гилад Элбом
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Сам факт того, что ты пишешь, подразумевает, что пытаешься. Всякий, кто хочет обозначить себя как художника, должен бороться со своим первоначальным наставником. Если ты хочешь, чтобы твой голос стал голосом поэта, то тебе не остается ничего, кроме как бороться со своим божественным предтечей. Ты это и делаешь. Ты — смертный, бросающий вызов творческой мощи Бога. Ты — дьявол.
Я не могу быть дьяволом. Я верю в Бога.
А я думал, ты веришь в Джули Стрэйн.
Это то же самое.
Тогда зачем ты пишешь? Если Джули Стрэйн — твой Бог, тогда твои жалкие стишки не прославляют её, они превозносят твоё раздутое «я». Творчество — исполненный хвастовства акт самоутверждения. Каждый текст всегда посвящен автору, не Богу.
А как же Хопкинс?
Джеральд Мэнли Хопкинс[24]?
Джеральд Мэнли Хопкинс. Каждое его стихотворение было хвалебной песнью во славу Божью.
Это он так думал.
Бог был его вдохновением.
Бог был его врагом. Он думал, что прославляет великодушное божество-защитника, а на деле всю свою жизнь он был занят войной с жестоким, кровожадным, мстительным Богом. Бог, которого описал Хопкинс, — чудовище. Это Бог, чьи лапы льва разрывают несчастного поэта на куски, Бог, чьи сотрясающие землю ноги раздавливают хрупкое тело поэта и обращают в ничто его слабый дух. Это жестокий, грубый Бог, грозный монстр, чьи всевидящие глаза говорят, что он готов пожрать того, кто ему предан; это всепроницающая сила, которая заставила Хопкинса пройти через множество унизительных проверок и осмотров, изнуряющих испытаний и переживаний.
Но Хопкинс любил Бога.
В самом начале — возможно. Но потом его почти свело с ума понимание того, что он соревнуется с Богом.
Что значит соревнуется? Он всегда стремился принизить себя. Он всегда хотел обезличить себя, говоря о величии Бога.
Это так. Он действительно изо всех сил старался убрать себя из собственных текстов. Но не смог.
Не смог?
Ещё как не смог. Вместо самопринижения у него получилось совершенно обратное: мощное утверждение своего присутствия во всех без исключения стихах. Самое печальное, что он знал, что его поэзия есть не что иное, как греховное самолюбование за счет Бога.
Но ты же не можешь отрицать тот факт, что он посвящал свои стихи Богу. Он писал в самой ясной манере: Слава да будет Богу.
Да. Но посмотреть на все особенные слова, которые он изобретает, проанализировать все идиосинкразические языковые приемы, которыми он столь печально известен, — ритм, размер, схема рифмовки, изобразительные средства, — становится ясно: он хотя и пытается сделать каждый стих совершенным гимном славе и величию Бога, его собственное присутствие заметно в тексте настолько, что практически затмевает присутствие Бога.
Практически — значит не совсем. Все равно Бог в очень большой степени заметен в каждом стихотворении Хопкинса. У особого языка, который изобретает Хопкинс, есть цель.
Какая же?
Я уже говорил: подражание. Хопкинс старается подражать Богу. Его поэзия — честная попытка сымитировать язык Господа.
Возможно. Только она не сработала. Исследуя исключительные возможности языка, Хопкинс направляет выражение своих мыслей туда, где оно бросает вызов самому Логосу изначальному божественному Слову. Языковые границы, до которых он дотрагивается, это как солнце, которого хотел достичь этот, как его там, с крыльями из воска.
Икар?
Икар. Точка, где подражание становится вызовом.
Я так не думаю. Хопкинс благодарен за то, что ему дозволено использовать язык Бога; и чтобы показать свою благодарность, он преподносит свою поэзию тому кто дал ему в дар язык, — то есть Богу. Он не делает ничего нового, он всего лишь завершает лингвистический цикл: возвращает слово человека в его божественный источник.
Да, но язык, который он возвращает — уже не тот самый язык, что он получил. Не тот истинный божественный язык, что дал ему Господь, а его вычурная и выпяченная разновидность. Это в высшей степени самодовольная попытка улучшить язык Бога. Она и делает всю его поэзию тщеславной и богохульной.
Как раз наоборот. Его стихи исполнены святости. Хопкинс ведь был членом Ордена иезуитов. Он был человеком, который всю свою жизнь стремился быть в окружении Христовом. В стихах он использует слова, которые дают ему — и его читателям — возможность получить прощение и причащение к Богу. Его поэзия сродни духовному ритуалу. Как Евхаристия. Читать её — совершать акт веры. Это делает ближе к Богу. Эти стихи — трансценденция, а может, даже пресуществление.
Да, только вот вместо того, чтобы применять свои так называемые поэтические потуги ради восхваления Бога, он пользует их для восхваления себя самого. Делая свою подражательную поэзию религиозным актом, проявлением божественного величия, он сражается с Богом не только посредством языка, этого источника творческой энергии, но и посредством внимания и преданности своих возможных читателей и последователей. Вместо подражания Богу этот твой еретик Хопкинс с гордостью представляется альтернативой Богу. Но ты-то знаешь, кто у нас тут альтернатива Богу? Да ведь?
Джули Стрэйн?
Сам Дьявол. Антихрист.
Хопкинс не был дьяволом. И я тоже не дьявол. Ты можешь утверждать, что Хопкинс не преуспел в своей попытке подражать Богу или идентифицировать себя с Христом, но я-то не Хопкинс. Я всего лишь пытаюсь быть самим собой.
Быть самим собой — быть как Сатана.
Это кто это так сказал?
Хопкинс и сказал. Он прекрасно понимал, что любой вид художественного самовыражения идет от дьявола. Он, например, никогда не читал этого, как его, который написал «Песнь обо мне».
Уолта Уитмена?
Уолта Уитмена. Хопкинс в глубине души точно знал, что его ум похож на ум Уитмена. От этого ему все сильнее хотелось его прочитать, и от этого он все тверже был настроен не делать этого.
Почему?
Потому что он знал: это — песнь Сатаны. Он знал, что произведение искусства всегда есть гимн во славу самого художника, и что самовосхваление, присущее акту писания, идет от дьявола. Найти свой собственный голос — это, несомненно, подражание Люциферу, а не Богу. Это гордыня человека в нем самом.
Ты и вправду веришь, что акт письменного творчества — это сатанинский ритуал?
Ну, во-первых, тебе не следует забывать, что я ни во что не верю. И во-вторых, да: фальшивое таинство, которое пытался свершить Хопкинс, на самом деле превратилось в сатанинское причастие. Сама концепция пресуществления основывается на реальном присутствии Бога на Евхаристии, а то, что делает Хопкинс, есть демоническое извращение этого постулата. В его стихах нет Бога, в них есть только сам Хопкинс. А когда реальное присутствие низводится к реальному отсутствию, священное таинство быстро вырождается в адскую церемонию, участника которой соблазняют вкусить от тела своего. Как змий, который пожирает свой хвост. Хопкинса соблазняют вкусить от отчаяния, испытать горечь своего потного «Я», поддаться искушению самопожирания, съесть труп своей безнадежности, стать жертвой сатанинского наслаждения и купаться в роскоши своей собственной нечистой индивидуальности. Он становится чем-то, что не смогло пройти пресуществление. Это — как раз то, что делаешь ты.