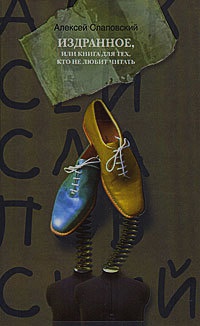Книга Апсихе - Эльжбета Латенайте
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Неизвестно, как у безголовых и бесхребетных желаний вырастает чешуя, рот и щупальца. Неизвестно, как мысль о камне становится камнем с мыслью. И стала.
Из гранул были сделаны камень в фундаменте и плита тротуара, где таилась Апсихе.
Лежала прямо, передом кверху. Ноги и бо́льшая часть туловища упирались в фундамент дома, а плечи и голова вылезали из-под фундамента под тротуар. Нос находился всего на пару сантиметров ниже поверхности плиты. Пожалуй, она была самым живым, что было и в доме, и на улице. Тело почти женское, хотя длинные стопы и широкие плечи напоминали мужские. И таилась она здесь, под улицей, как другие улицы, и под домом, как другие дома, втиснув голову под тротуар, а ноги — в фундамент дома.
Тело Апсихе осталось теплокровным, как и до перемещения в укрытие. И зимой, когда выпадал снег, с плиты, которая прикрывала ее лицо, снег иногда стаивал. А если плакала, то стаивал даже толстый слой. Иногда специально плакала, чтобы открыть себе обзор. На нее лил дождь, брызгала грязь, падали листья. По ней ходили, прыгали, шатались, уносили ноги, плелись, заметали следы. На ней падали, цеплялись, находили, топали, теряли. Плевались, капали, лаяли, шлепали, нюхали, задували, спаривались. Спали, поднимались, катились, напевали, просили подаяния, стояли на коленях, болели, гладили. Сохли, гнили, белели, зрели, меняли цвет, консистенцию, стачивались.
А она все таилась, выкристаллизовавшись в частицы камня, в своей плодоносной земле, что тверже самого твердого сердца и гаже самого гадкого смрада — смрада нерешительности. Все время с открытыми глазами, все время лицом кверху, все время с одинаковым выражением лица, все время в неизменном состоянии взирания из камня вверх.
Казалось бы, лежала подо льдом, не обращающим внимания на свою недолговечность.
Казалось бы, не хватало совсем чуть-чуть, чтобы дом и тротуар заметили антитело. Но не заметили — никакого антитела не было. Было какое-то антитело, или любое, или еще какое — просто не было никакого.
Неизвестно, как сбываются самые условные желания, как у безголовых стремлений вырастают стан и лодыжки, неизвестно, как мысль о камне становится камнем с мыслью. И стала.
Широко раскрытые серые глаза, чуть приоткрытый рот и строго вертикальный взгляд. Нижняя часть ее лица уходила под фундамент магазина, над животом — витрина с товарами. Время от времени над нею останавливались люди и наклонялись к выставленному в витрине. Именно тогда могла их увидеть. Увидеть перевернутые лица. Смотрела и таким образом узнавала, каков теперь мир.
И укрывалась в укаменелости. Не в тюрьме, не в заточении, а в сердцевине камня. Камень не ел, и она не испытывала нужды в еде.
Казалось, не подавая знаков, под землей пульсировал настоящий человек, самый настоящий человек.
Когда лица наклонялись к витрине, она — оп! — взглядом хватала их, вцеплялась ногтями глаз и не отпускала, упиралась и держала, напрягшись так, что почти взрывалась, как только может держать человек — сосредоточив все свои внимания на стоящем вверху неопределенном незнакомце, удерживаемом за лицо, лицо, которое вверх ногами, не отпускала и не могла отпустить, даже если бы хотела, и… Всё, тот, вверху, ушел. Укаменелость.
Апсихе каталась по виадукам между человеческими головами, между пупырышками на их языках, старалась уничтожить свои старые суставы и отрастить новые, когда в мыслях с улыбкой выскочило желание стать камнем. И легла в укрытие под тротуаром.
Раньше люди говорили, что у нее всё еще впереди. Она сердилась и спрашивала: если всё в будущем, то что теперь?
Сейчас Апсихе грела землю изнутри, а камень остужал ее. Наверное, это придурки и имели в виду, когда говорили, что у нее всё еще впереди.
На плите Апсихе иногда разливались лужи, и тогда не только размягчалась прилипшая к поверхности грязь, но на некоторое время менялся доступный обзор. Можно сказать, не лужа — а целое озеро затей, освежающее фантазию укаменелости и укаменелость фантазии.
Однажды весенним утром прошел сильный дождь, и в тот день никто не рвался на улицу. Целый день никто не разглядывал витрину. Неожиданно и беспричинно кто-то наклонился. Но взгляд любопытного поймала не витрина, а плита тротуара, в которой таилась Апсихе, вернее — не взгляд, а его собственное отражение в луже. Неизвестно, почему человек с таким вниманием, многозначительностью и тщанием поливал лужу жидкостью своего взгляда. Или плиту. Или себя самого (какая разница!). Неизвестно чем — испугом от присутствия близкого существа, которое впервые за всю укаменелость, само того не подозревая, встретилось с ней взглядом, или вероятной относительной тоской по прошлому бытию — заплатила Апсихе за лужу, привлекшую к ней чьи-то глаза.
Произошло еще кое-что, когда этот человек, образованный чуткий мужчина, присел перед витриной, чтобы поправить брючину, и его взгляд поймала лужа. Нагнувшись, он вытягивал из ботинка край брючины и взглянул на себя в луже. На находившуюся за лужей Апсихе. Она успела заметить, что мужчина, хоть и не видел сквозь плиту, все же не был слепым. Своему отражению в луже он выдал несколько критических замечаний и проклятий за то, что еще не успел увидеть в женщинах. Сквозь эти претензии к себе он и увидел Апсихе, хоть взгляд и не пронзил плиту.
Несомненно, она ничего не потеряла и ничего не приобрела, когда легла в укрытие. Ничего, кроме ничего. Потому что ведь любые ситуации и всякие обстоятельства под любыми именами в конечном итоге — та единственная ситуация и то единственное обстоятельство. Прозрачное, в девяносто раз нежнее, гибче, спокойнее, проницаемее и стремительнее, чем воздух. Уютное, голое, лишенное температуры, света, неизвестно — быстрее вбирающее или растекающееся. Это обстоятельство не только легонькое и незаметное, оно и жгучая кислота, разъедающая определения и расплавляющая и соединяющая различия и категории в одно, в себя саму, которую тоже разъедает, чтобы не осталось каких-нибудь признаков чего-нибудь. И тогда все различия становятся одним всеобъемлющим различием. Никаким различием. Нет иного, кроме никакого, различия между здоровым и паралитиком, между глупым гением и тра-ля-ля буддистом, между прикованным к себе Богом и заживающим шрамом с синяком, из зеленого превращающегося в желтый, между слюной на подушке и банальностью, между кавычками и пунктиром, между Сингапуром и твоим полом, между перекрытиями и связками, между какими-нибудь отталкивающими, не вдохновляющими чертами характера и прожорливой тлей. В таком случае нет никаких различий между постпоспостиндивидуализмом и вонью красивых пирожных и тортиков, между Музеем чертей в Каунасе и рассеивающейся ситуацией монотеистических верований в катакомбах всеохватности, когда туда заглядывает попутный вопрос «Кто, кроме Бога, скажет мне хотя бы слово без лжи о Боге?». Нет никакой разницы! Нет разницы, будет ли сказано, что разница есть или нет! Чувствуешь! Чувствуешь, как тает, как разъедает? Рушатся имена, линии. Сгрызи и то, что называется бессмыслицей, еще быстрее — то, что называется смыслом. И того, кто зовется Спасителем. И того сгрызи, растопи, и того. Растопи примеры, как растапливаешь все, чего нет: вымыслы, авторитеты, иерархии, упадки, подъемы, дворцы и хижины, растопи этот мозг, который осмеливается произнести такую ерунду, такую пустую трату времени, как примернаказаниедостижениешколаценностьнедостатокбедастрах. Кому нужна мать, — сгрызи и ее. И опору, то, во что верю, и то, чего хочет мой близкий, сгрызи, сгрызи меня. Сгрызи меня, я сгрызу тебя. Какое ты щедрое, различие, Сингапур, я, пол, гений, банк, колыбель достоинств, смертельное расставание, какой ты щедрый, злодей, те, с кем незнакома, и, ангел мой, какие вы щедрые, полифония и додекафония, все прошлые и новые болезни, ваша щедрость, экономика, культура, прочая чушь, еда голодающим в протянутой руке помощи, привидение мое голодное, какое ты щедрое, но кто это говорит? Кто? Кто тебя ест?