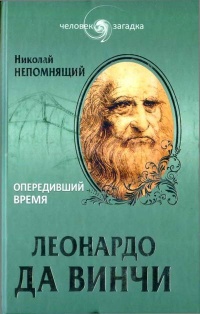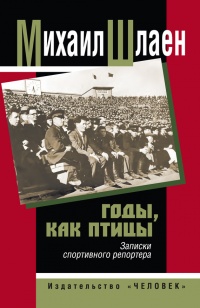Книга Булат Окуджава - Дмитрий Быков
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Двойственность, бинарность окуджавовского мира отмечена и описана многажды – он подбросил исследователям множество цитат и в том же 1982 году написал песню «Две дороги», использованную потом в фильме «Эта женщина в окне». Он и писал двойчатками, и песни строил на эмоциональном несовпадении музыки и текста, и лейтмотивом всей его лирики является мысль о роковом нерушимом соседстве радости и отчаяния, любови и крови («Сердцу закон непреложный – радость-страданье одно», как назвал это Блок в пьесе, само название которой содержит все тот же контрапункт: «Роза и крест»). Радость-страданье, любовь и разлука – пароли окуджавовского мира, и горький привкус всякой сладости – его смысловая и эмоциональная доминанта. Однако есть в этой песне и еще одна двойственность – задумчивый и неторопливый куплет сменяется более быстрым стаккатным припевом, имитирующим ритм скачки, брички, погони.
Предварительный просмотр «Нас венчали не в церкви» прошел на «Мосфильме» в день смерти Брежнева.
5
Воцарение Юрия Андропова, шефа КГБ, сопровождалось паническими ожиданиями – о грядущих репрессиях шептались на многих интеллигентских кухнях. Андропов был известен непримиримостью к коррупции и начал борьбу с брежневским кланом, но в Россию рыбу, гниющую с головы, всегда чистят с хвоста. Лагерная администрация получила право добавлять сроки без суда, диссидентов уже не предупреждали и не предлагали выехать, а сажали десятками, и сам Андропов на одном из заседаний КГБ говорил: «Дадим народу колбасы – не захочет никакой свободы». Некоторая часть народа – того самого народа, который боготворил Высоцкого и складывал тысячи анекдотов об одряхлевшей власти, – воспряла, ощутив сильную руку: Андропов начал устраивать проверки в магазинах и кинотеатрах – кто это их посещает в рабочее время? В разговорах с Западом появились стальные нотки – пресловутая «разрядка» уже не упоминалась. Сочинили анекдот о новом сорте яблок – андроповка, – который вяжет не только рот, но и руки. Часть интеллигенции, впрочем, возлагала надежды на то, что Андропов – умный циник и ему понадобятся свои идеологи, готовые реформировать обветшавшую коммунистическую доктрину; однако Юрий Владимирович оказался ортодоксом похлеще Суслова. Настроения в интеллигентской среде стали паническими. Все, кто мог, уехали, оставшиеся искали новую стратегию выживания. Окуджава сетовал на атмосферу в стране и предрекал, по воспоминаниям одной из тележурналисток, регулярно его снимавших, «новый тридцать седьмой». В этих обстоятельствах он впервые серьезно задумывается об эмиграции – точнее, о компромиссной, приемлемой ее форме: спичрайтер и ближайший помощник Эдуарда Шеварднадзе Теймураз Степанов приглашает его с женой и сыном в Тбилиси.
Окуджава посещает Тбилиси в конце семидесятых – начале восьмидесятых несколько раз, признаваясь в интервью, что с годами «всё больше чувствует себя грузином». Он ненадолго приезжал туда в октябре 1979 года, в апреле 1982-го (дал концерт и встретился с журналистами в редакции «Зари Востока»); тогда же, в апреле, встретился со старым другом Юрой Попенянцем, с которым разносил когда-то повестки (теперь тот работал инженером-проектировщиком). В феврале 1983 года Окуджава приехал в Тбилиси на две недели, и Степанов уговорил его встретиться с сотрудниками возглавляемого им агентства «Грузинформ». Воспоминания об этой встрече в тбилисском журнале «Русский клуб» (№ 5, 2006) опубликовал журналист Владимир Головин. Там содержится загадочная фраза: «Здесь нашлись добрые люди, готовые предоставить ему возможность пожить, сколько понадобится». И далее – цитата из речи самого Окуджавы: «Внутренний дискомфорт вызван разными причинами. Предложение осесть в Грузии сделано на очень высоком уровне. Не знаю, придется ли воспользоваться этим, но я благодарен уже за то, что такое предложение было сделано».
5 июля 1983 года умерла от инфаркта мать Окуджавы. Незадолго до ее смерти Окуджава успел снять ее на видеокамеру, привезенную из Парижа в 1982 году, и единственная эта съемка сохранилась. Там Ашхен с сыном горячо обсуждают, когда лучше всего берутся «голоса»: у вас когда глушат? У нас в пять утра нормально слышно… Окуджава в кадре демонстрирует матери, как развернуть приемник, чтобы лучше ловилось. На той же съемке Ашхен вспоминает, как приехала к сыну в Тбилиси в сорок седьмом, они уточняют даты. «Ты был вылитый Шалико. Я смотрела – у стола сидит Шалико!»
К шестидесятилетию Окуджаве в «Советском писателе» предложили составить избранное – книгу стихов на двадцать листов. Сборник предваряла строчка: «Посвящаю эту книгу моей маме». Первым стихотворением в нем было «Новое утро».
В том же 1983 году в Москве созрел проект перестройки Арбата, превращения его в пешеходную улицу, выложенную плиткой, обставленную развесистыми фонарями и напрочь лишенную собственного, родного для всех москвичей лица. Окуджава горячо выступал против этого проекта, о котором заговорили еще в середине семидесятых, просил, требовал, настаивал на том, чтобы Арбат не превращали в витрину для равнодушных иностранцев – но в восемьдесят третьем по Арбату перестал ходить 39-й троллейбус, закрылись кафе «Буратино» и «Диета», начали снимать старую мостовую… Год спустя Окуджава написал свою «Песенку разрушителей Арбата», опубликованную лишь в девяносто четвертом, но читавшуюся на вечерах:
Припев:
Он считал себя виновником этого безумия, хоть и косвенным: ведь это он воспевал Арбат, делал его символом Москвы, привлекал туда бесчисленных посетителей – словом, конструировал арбатскую мифологию; теперь эта мифология попала в руки новых дельцов, «ярмарочных, рыночных», – и это стало нагляднейшим предупреждением о том, что произойдет с идеями шестидесятников, когда они сделаются достоянием широкой общественности. Собственно, уже и в начале восьмидесятых многое было понятно: состояние общества было таково, что самая благородная идея, внедренная в него, немедленно обретет зловещий оскал и послужит предлогом для необузданного воровства; это и было одной из причин относительного скепсиса, с которым Окуджава встречал общественные перемены. Все они свидетельствовали не столько о народной тяге к свободе, сколько о почти поголовном отсутствии принципов и вкуса.