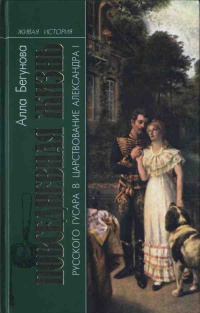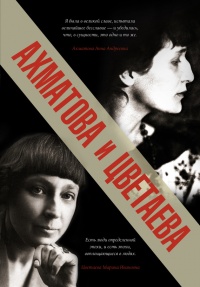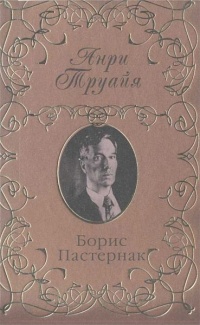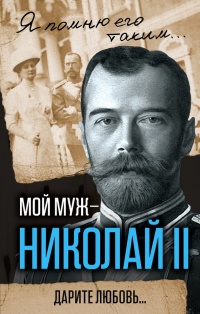Книга Борис Пастернак - Дмитрий Быков
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
«Мы с тобой лучше умеем. Но литературой ты будешь заниматься только после моей смерти».
В 1956 году он написал о бывших спутниках:
В том же пятьдесят шестом он ненадолго рассорится с Нейгаузом — его оскорбят нейгаузовское пьянство, пошлые шутки, легкое отношение к жизни… Потом они помирятся, но нетерпимость Пастернака к былым друзьям идет по нарастающей — в пятьдесят девятом он порвет даже с Ливановым, верным спутником, в чей адрес столько было высказано и написано пьяных, нежных, выспренних похвал… Ливанов заявится в Переделкино с двумя безвестными пьянчугами, которым он пообещал показать «живого Пастернака», примется по-актерски громко рокотать — Пастернак, ко всему этому давно привыкший, взбесится. Детонатором послужит то, что один из гостей смущенно обзовет его «известным переводчиком». Пастернак попросил Ливанова уехать, тот не внял. По воспоминаниям Ивинской, после очередного заявления Ливанова о том, что Пастернак прежде всего великий поэт, а романы не его дело,— он резко его оборвет: «Ты хотел играть Гамлета, с какими средствами ты хотел его играть?!» (сын Ливанова утверждает, что Пастернак не мог сказать ничего подобного). На следующий день он написал Ливанову письмо, после которого они уже не встречались. Письмо на первый взгляд исполнено сатанинской гордыни, хотя при внимательном чтении можно прочесть в нем и затаенное глубокое страдание, и оскорбленное достоинство. Вот это письмо от 14 сентября 1959 года:
«Дорогой Борис,
(…) Около года я не мог нахвалиться на здоровье и забыл, что такое бессонница, а вчера после того, что ты побывал у нас, я места себе не находил от отвращения к жизни и самому себе, и двойная порция снотворной отравы не дала мне сна.
И дело не в вине и твоих отступлениях от правил приличия, а в том, что я давно оторвался и ушел от серого, постылого, занудливого прошлого и думал, что забыл его, а ты с головы до ног его сплошное воплощение и напоминание. Я давно просил тебя не произносить мне здравиц. Ты этого не умеешь. Я терпеть не могу твоих величаний. Я не люблю, когда ты меня производишь от тонкости, от совести, от моего отца, от Пушкина, от Левитана. Тому, что безусловно, не надо родословной. И не надо мне твоей влиятельной поддержки в целях увековечивания. Как-нибудь проживу без твоего покровительства. Ты в собственной жизни, может быть, привык к преувеличениям, а я не лягушка, не надо меня раздувать в вола. Я знаю, я играю многим, но мне слаще умереть, чем разделить дым и обман, которыми дышишь ты.
Я часто бывал свидетелем того, как ты языком отплачивал тем, кто порывали с тобой, Ивановым, Погодиным, Капицам, прочим. Да поможет тебе Бог. Ничего не случилось. Ты кругом прав передо мной.
Наоборот, я несправедлив к тебе, я не верю в тебя. И ты ничего не потеряешь, живя врозь со мной, без встреч. Я неверный товарищ. Я говорил бы и говорил впредь нежности тебе, Нейгаузу, Асмусу. А конечно, охотнее всего я бы всех вас перевешал.
Твой Борис».
Письмо не нуждается в комментариях. В нем пылает не только раздражение по поводу неисправимой пошлости навеки въевшегося актерства, но и страшная усталость от многолетнего лицемерия, фальшивых объятий «с сопровождением обид»,— толстовская усталость от фальши собственной жизни; собственно, тут уже полшага до ухода, только Толстой от всех сбежал, а Пастернак всех разогнал. Копилось все это давно:
«Бедный Борис Ливанов устроил скандал мне в защиту от неведомо кого, я никак не мог его остановить. И все было противно, и я сам себе. На другой день я свалился в гриппе от того вечернего отвращения. Какой-то вид осложнения, тоже от омерзения, дал мне какие-то мешки под глазами, красные припухлости вокруг глаз, как у очковой змеи. Чувство гадливости не покидало меня сквозь весь жар, я был тошен самому себе, и, только когда сел за работу и перестал заниматься другими и самим собой, все как рукой сняло» (из письма к Нине Табидзе, 6 апреля 1950 года).
Тогда, в апреле пятидесятого, Борис Ливанов был еще «бедный».
Через две недели после разрыва Пастернак сделал попытку примириться — уже 3 октября 1959 года он просит Ливановых «перешагнуть через то письмо» и приехать на Зинины именины, но Ливанов обиделся накрепко. В начале шестидесятого Пастернак умудрился поссориться даже с Ниной Табидзе — ей показалось, что он обиделся на ее разговоры об Ольге Ивинской, он и вправду обиделся, возникла неловкость; помирила их дочь Ладо Гудиашвили, Чухуртма, а при первых известиях о болезни Пастернака Нина Табидзе примчалась к нему из Тбилиси. Тем не менее и самая болезнь его была омрачена — а может, освещена — еще одним, последним разрывом: он отказался пускать к себе Ольгу Ивинскую. Около него остались только члены семьи и вдова Табидзе.
3
И тут мы подходим к генезису толстовского и пастернаковского позднего мировоззрения, главной составляющей которого была аскеза, идея отказа от всего лишнего, тоска по радикальному упрощению жизни — не в смысле лишенияее главных условностей (таких, как искусство, милосердие, просвещение, хотя Толстого и искусство раздражало), а в смысле избавления от любой лжи, любых недоговоренностей и путаницы. Особенно актуально это было для Пастернака, всю жизнь боявшегося кого-то обидеть резким словом или неосторожным замечанием; эта долгая избыточная деликатность для того и была нужна, чтобы тем бесповоротнее и жестче заговорить о главном к концу жизни, уже без всяких компромиссов.
Философия Толстого потому и была так популярна у современников, что это философия кризиса цивилизации, следствие давящей усталости от века. Толстой любил понятие fin de siècle, и его идеи, сформировавшиеся в окончательном виде в восьмидесятые годы, были знамением конца эпохи, уставшей от собственной сложности. Требовалось радикальное упрощение, и в этом смысле не столько Лев Толстой был зеркалом русской революции, сколько русская революция оказалась кривым зеркалом Льва Толстого. Толстой не принял фальшивого либерализма Александра II, Пастернак не пожелал всерьез воспринимать хрущевский либерализм; до этого обоим был отвратителен палочный режим Николая I и типологически близкий ему сталинизм. По силе переживания кризисов — психических и творческих — Толстой и Пастернак особенно близки: «арзамасский ужас» Толстого и парижское безумие Пастернака во многом сходны по симптоматике и усугублены тем, что переживаются вдали от дома.
Отвращение у Пастернака и Толстого вызывают сходные вещи — политика, демагогия, актерство, фальшь, официальная религия (во времена Пастернака ее роль играла деградировавшая коммунистическая идеология). Ответом на все эти мерзости было свободное, неофициальное, внецерковное христианство (Пастернак с официальной церковью не враждовал, но и не был прихожанином какого-либо храма).