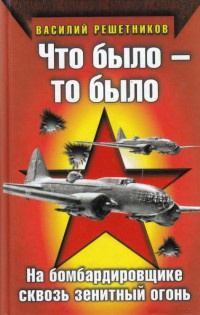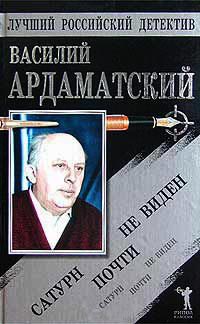Книга Жизнь и судьба - Василий Гроссман
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Генерал-лейтенант велел передать вам, что этот рождественский подарок из Германии доставил летчик, смертельно раненный над Сталинградом. Он приземлился в Питомнике, его вынули мертвым из кабины.
Люди держали на ладонях карликовые елочки. Елки, отогретые в теплом воздухе, покрылись мелкой росой, наполнили подвал запахом хвои, забившим тяжелый дух морга и кузницы – запах переднего края.
Казалось, от седой головы старика, сидевшего у печки, шел запах Рождества.
Чувствительное сердце Баха ощутило печаль и прелесть этой минуты. Люди, презиравшие силу русской тяжелой артиллерии, ожесточенные, грубые, измученные голодом, вшами, задерганные недостачей патронов, молча поняли все сразу, – не бинты, не хлеб, не толовые шашки, а эти еловые ветки, опутанные бесполезной паутинкой, бомбошки из сиротского дома нужны были им.
Солдаты окружили старика, сидевшего на ящике. Это он летом вел головную моторизованную дивизию к Волге. Всю жизнь, везде и всюду, он был актером. Он актерствовал не только перед строем и в разговорах с командующим. Он был актером и дома с женой, и когда гулял по саду, и с невесткой, и с внуком. Он был актером, когда ночью, один, лежал в постели, а рядом на кресле лежали его генеральские брюки. И, конечно, он был актером перед солдатами, он был актером, когда спрашивал их о матерях, когда хмурился, когда грубовато шутил по поводу солдатских любовных развлечений, и когда интересовался содержимым солдатского котла и преувеличенно серьезно снимал пробу с супа, и когда склонял суровую голову перед незасыпанными солдатскими могилами, и когда произносил преувеличенно сердечные, отеческие слова перед шеренгой новобранцев. Это актерство не приходило извне, оно являлось изнутри, оно было растворено в его мыслях, в нем. Он не знал о нем, актерство немыслимо было отделить от него, как нельзя отфильтровать соль из соленой воды. Это актерство вошло с ним в ротный блиндаж, оно было в том, как он распахнул шинель, сел на ящик перед печкой, в том, как спокойно, печально посмотрел на солдат и поздравил их. Старик никогда не чувствовал своей актерской игры, и вдруг он понял ее, и она ушла, выпала из его существа – вымороженная соль из замерзшей воды.
Пришла пресность, стариковская жалость к голодным, замученным людям. Беспомощный, слабый и старый человек сидел среди беспомощных и несчастных.
Один из солдат тихо затянул песенку:
O, Tannenbaum, o, Tannenbaum, wie griin sind deine Blatter…
[О, елочка, о, елочка,
Как зелены твои иголочки… (нем.)]
Два-три голоса подтянули. А запах хвои сводил с ума, и слова детской песенки звучали, как раскаты божественных труб:
O, Tannenbaum, o, Tannenbaum…
И со дна моря, из холодной тьмы поднимались на поверхность забытые, заброшенные чувства, высвобождались мысли, о которых давно не было воспоминаний…
Они не давали ни радости, ни легкости. Но сила их была человеческой силой, то есть самой большой силой в мире.
Тяжело ударили один за другим разрывы крупнокалиберных советских снарядов – иван был чем-то недоволен, видимо, догадывался, что окруженные справляют Рождество. Никто не обратил внимания на посыпавшуюся с потолка труху и на то, что печка дунула в блиндаж облачком красных искр.
Дробь железных барабанов дубасила по земле, и земля кричала, – иван заиграл на своих любимых реактивных минометах. И тотчас заскрежетали тяжелые станковые пулеметы.
Старик сидел, склонив голову, – поза обычная для людей, утомленных долгой жизнью. Потухли огни на сцене, и люди со смытым гримом вышли под серый дневной свет. Разные стали сейчас одинаковы, – и легендарный генерал, руководитель молниеносных мотомехпрорывов, и мелочный унтер-офицер, и солдат Шмидт, подозреваемый в нехороших антигосударственных мыслях… Бах подумал, что Ленард бы не поддался в эти минуты, в нем уж не могло произойти преображения немецкого, государственного, в человеческое.
Он повернул голову к двери и увидел Ленарда.
Штумпфе, лучший солдат в роте, вызывавший робкие и восхищенные взгляды новобранцев, преобразился. Его большое светлоглазое лицо осунулось. Мундир и шинель обратились в мятую и старенькую одежду, прикрывавшую тело от русского ветра и мороза. Он перестал говорить умно, его шутки не смешили.
Он страдал от голода сильней других, так как был огромен ростом и нуждался в большой пище.
Постоянный голод заставлял его с утра выходить на добычу; он рыл, шуровал среди развалин, он выпрашивал, подъедал крошки, дежурил около кухни. Бах привык видеть его внимательное, напряженное лицо. Штумпфе беспрерывно думал о еде, искал ее не только в свободное время, но и в бою.
Пробираясь к жилому подвалу, Бах увидел большую спину, большие плечи голодного солдата. Он копался на пустыре, где когда-то, до окружения, стояли кухни и находились склады продовольственного отдела полка. Он отдирал от земли листья капусты, выискивал крошечные, величиной с желудь, замерзшие картофелины, в свое время по мизерности размера не попавшие в котел.
Из-за каменной стены вышла высокая старуха в рваном мужском пальто, подпоясанном веревкой, в стоптанных мужских бутсах. Она шла навстречу солдату, пристально глядя в землю, крючком из толстой проволоки ворошила снег.
Они увидели друг друга, не поднимая головы, по теням, столкнувшимся на снегу.
Громадный немец поднял глаза на высокую старуху и, доверчиво держа перед ней дырявый, слюдянистый капустный лист, сказал медленно и потому торжественно:
– Здравствуйте, мадам.
Старуха, неторопливо отведя рукой шмотье, сползавшее ей на лоб, взглянула темными, полными доброты и ума глазами, величаво, медленно ответила:
– Здравствуй, пан.
Это была встреча на самом высоком уровне представителей двух великих народов. Никто, кроме Баха, не видел этой встречи, а солдат и старуха тотчас забыли о ней.
Потеплело, и крупный снег хлопьями ложился на землю, на красное кирпичное крошево, на плечи могильных крестов, на лбы мертвых танков, в ушные раковины незарытых мертвецов.
Теплый снеговой туман казался синевато-серым. Снег заполнил воздушное пространство, остановил ветер, приглушил пальбу, соединил, смешал землю и небо в неясное, колышущееся мягкое и серое единство.
Снег ложился на плечи Баха, и казалось, тишина хлопьями падает на затихшую Волгу, на мертвый город, на скелеты лошадей; снег шел всюду, не только на земле, но и на звездах, весь мир был полон снега. Все исчезало под снегом – тела убитых, оружие, гнойные тряпки, щебень, скрученное железо.
Это не снег, само время – мягкое, белое, ложилось, наслаивалось на человеческое городское побоище, и настоящее становилось прошлым, и не было будущего в медленном мохнатом мелькании снега.
Бах лежал на нарах за ситцевой занавеской в тесном закуте подвала. На плече его лежала голова спящей женщины. Лицо ее от худобы казалось одновременно детским и увядшим. Бах глядел на ее худую шею и грудь, белевшую из серой грязной сорочки. Тихо, медленно, чтобы не разбудить женщину, он поднес к губам ее растрепанную косу. Волосы пахли, они были живыми, упругими и теплыми, словно и в них текла кровь.