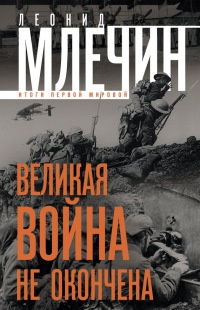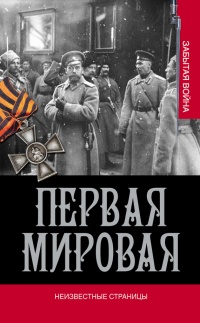Книга Три месяца в бою. Дневник казачьего офицера - Леонид Саянский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Сегодня ночью, т.е. вернее вчера, в Руду, где наш штаб ночевал в «клопинной» избе, явились два татарчонка-стрелка, плохо говорящие по-русски, — переводчики. Говорят, привели немцев. Глядим, стоят на дворе под факелами семь оборванных и грязных немцев. К ним:
— Откуда вы?
Молчат. К солдатам:
— Кто вас сюда послал.
— Никто ни пуслал… Мы пуймал — докладывает татарчук и еще что-то лопочет, чего понять нельзя, — а со стороны так даже неприличное что-то выходит.
Так как у нас не имелось в запасе переводчика-татарина, то мы обратились через переводчика-немца к плененным за объяснениями.
Кто ж вас забрал мол? И старший из них обстоятельно доложил — они дозорные 34 пехотного полка. Шли за своими по полотну дороги. Вдруг сбоку выстрелы, и двое из них упали (их было девять). Затем выскочили вот эти (кивок на блаженно улыбающихся татарчат) и начали колоть штыками, и вот — к самым глазам нашим тянется обмотанная грязной марлей грязная и трясущаяся рука. Тогда мы, продолжает рассказчик, подумали что «их» много, и сдались. Они нас повели, а потом, когда мы спохватились, что их двое только, было уже поздно, т. к. мы винтовки свои бросили там, на полотне, когда нас взяли. Да нам лучше так, мы — поляки с Познани. Лучше землю пахать пойдем в Сибирь, чем тут… голодать — вырвалось после паузы тихо.
Отправили их к пленным и велели накормить.
Татарчат записали, чтоб наградить потом.
Офицеры сдаются, правда, мало. Но солдаты, как видно из того и из многих таких же случаев, в порядочном количестве. Разбаливаюсь я, кажется. Голова как свинцом налита. Глазам — больно смотреть. Стоит пройти немного быстрым шагом — все тело болит. По вечерам сильно лихорадит. Генерал гонит лечиться. Лечиться-то я не пойду, а вот в Австрию, свой полк искать, — с удовольствием! И отдохну дорогой немного. А то здесь, на границе, судя по складывающейся обстановке, ничего особенно грандиозного не будет. Теперь наверное отдохнем и пойдем брать Лык (в третий раз за эту войну); он и без того мне надоел с прошлых боев еще.
21 сентября
Немцы ушли далеко, верст на двадцать вглубь Пруссии, ни одного разъезда нет немецкого. Жителей тоже ни одного. И видно, что они, эти несчастные жители, ушли теперь надолго. Ибо раньше они хоть кое-что оставляли дома, а теперь соринки не найдешь — все вывезено. Местечки все сожжены и разбиты дотла. В Просткене одни трубы лишь торчат, обожженные и конусообразные.
Прощай «курятки и свинятки» с немецкой земли. Много было на вас претендентов за это время! И мы, и немцы, и сами жители — все хозяйничали над вами вовсю, не жалея многострадальных животин!
Решено, завтра выезжаю в Австрию. Хотя наш дивизионный старик-эскулап находит, что это «глупо дышать на ладан и ехать в Австрию».
Ну, ладно! Подышим еще! Хотя правда, контузия сказалась: я чувствую себя сильно разбитым, нездоровым.
Идут сборы. Мои и чужие вещи так перепутались, что я и сам не помню теперь, чьи эти всякие мелочи — мои ли, товарищей ли…
Отобранных немецких лошадей оставлю здесь.
Где полк — не знаю, и ехать с конями — бессмысленно. Да и все равно — там найду.
Жалко, сжился я с нашим штабом за два почти месяца жизни в походе и в бою. Ну, да, Бог даст и встретимся потом! Все сейчас строчат письма и телеграммы, чтоб я отправил их из России. Отсюда-то трудненько это делается. До сих пор, вот уже два месяца почти, как мы из дому — ничего не получали еще. Конечно, сохранение военных тайн великая вещь, но и чинуши почтовые — лодыри отчаянные. Понацепили на себя шашки и револьверы, а иные даже и шпоры, сидят себе по полевым конторам и лодыря гоняют с сестрами из соседних госпиталей. А корреспонденция не разбирается и лежит тюками вдоль стен. Бродил сейчас часа три по бивакам полков, по грязным кривым уличкам, по вновь уже шумному базару (ну, и живучи же эти «коммерсанты» местные!). Смотрел вокруг и старался запечатлеть в своей памяти все, что я вижу, и свои пережитые уже здесь ощущения, связанный чуть не с каждым зданием. Вот на этом углу я был, когда увидел первый немецкий «таубе». Вот эта застава и шоссе за ней — знакома по моему мотоциклетному прорыву. Вот тут, у школы, в начале сентября, перед уходом из Граева, около меня выломил ворота в стене немецкий «шестидюймовик». Сколько пережито! И сколько пережитого не передается никаким пером, ибо есть вещи, которых даже словами описать нельзя. Не остаться ли уже тут, при штабе? Нет, нет, в строй! Там и веселее, да и новые места будут; уж слишком все мрачно в Пруссии. И злобные животно-тупые враги надоели. И их манера воевать с разбоем и грабежом — надоела и гнетет как-то душу. Да и потом, откровенно говоря, здесь уже потому невесело, как-то «мрачно» драться, что пока что в сущности тут ни одного громкого дела не было. Да едва ли и будет. А просто будут друг против друга топтаться по выжженным полям небольшие силы.
Теперь, когда выяснилось, что Гинденбург разбит и отошел от Сувалок и немцы ушли на свою территорию, они наверное бросятся на другое место, не у нас. И наверно это будет где-нибудь на юго-западе, между Варшавой и Краковом, старинными братом и сестрой.
Может быть, на счастье, мой полк там поблизости где-нибудь. Потом там, говорят, есть большие конные дела. А здесь я, будучи ординарцем, не могу доставить себе этого удовольствия — побыть в конном бою…
Нет, еду!
23 сентября
Вечер. На письменном столе электрическая лампа со штепселем льет свой ровный, спокойный свет на грязные листы моей походной тетради. Тихо вокруг. Только на улицах, за окнами кипит жизнь! Гудят автомобили. Гудит толпа, наводняющая панели. Откуда-то доносится мушка. Господи! Какой контраст. В зеркале виднеется худое, черно-желтое лицо с подведенными синевой глазами.
Я это там, в зеркале? Неужели я так и сижу в этом мягком кресле хорошего чистого номера лучшей в Белостоке гостиницы! Прямо не верится как-то. Ведь только утром еще сегодня я был там, в старом доме с простреленными потолками. Только сегодня я был грязным, кой-где продранным, небритым и глотал утром мутный чай с жесткими сухарями, пахнущими уже появившейся плесенью. А сейчас я выбрит чисто, с ног до головы одет и даже надушен. В кармане — чистый платок. В желудке — хороший обед. В руках только что был вечерний выпуск телеграмм и шикарная папироса.
Входит лакей с подносом и самоваром. Свежий хлеб, масло, ветчина, лимон (наша мечта на позициях, где приходится пить всевозможную, даже болотную воду) и давно не виданное — пирожное «Микадо».
И подумать, что всего лишь девяносто верст отделяют меня от бессонных, выжидающих, тревожных ночей, от обедов из чего попало; от крови, стонов и страдания.
Когда сегодня в полдень наш поезд выбирался из Граева по только что исправленному пути, немцы послали ему прощальный привет. Появился откуда-то, точно с небес, «Таубе» — летевший до сих пор на высоте, недоступной зрению, и швырнул бомбу, очевидно метясь в поезд. Но увы! Его гостинец поднял столб черного дыма саженях в полуторастах вправо, на опушке леса, Надеюсь, что там в этот момент никого из наших не было.