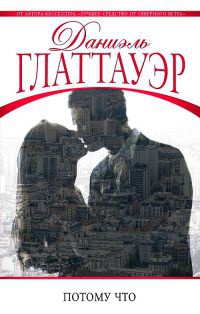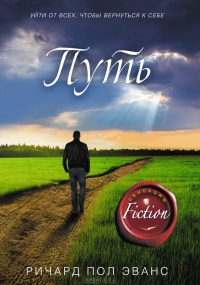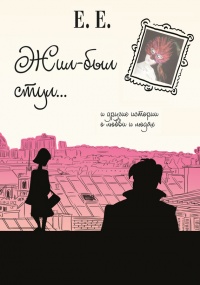Книга Светило малое для освещения ночи - Авигея Бархоленко
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Лушка прикоснулась к толстому вязанию на ногах, слезы прорвались из дальних недр, и приговоренная душа узрела дальний свет.
* * *
Носки жарко грели. Носки висели откренивающим грузом. Носки стали якорем, от которого она не смела оторваться.
* * *
Теперь, истощив себя ужасом от бесконечно возобновляющихся картин недавнего прошлого, она иногда погружалась в покой рассеянного оконного света или вдруг вспоминала что-нибудь отрадное из самого детского детства, чаще свою бабку, в честь которой ее и окрестили. Около бабки всегда было много простора и много интересного, был большой огород с разнообразными плодами, был лес и были поляны в цветах. Одна поляна вспоминалась чаще других — сплошные белые ромашки, Лушка видит их впервые в жизни, но в радости бежит к ним, как к близким знакомым, и ясные цветы скользят по лицу и плечам, — и сколько же ей тогда было? Два года? Три?
Спохватившись, что пребывает в постороннем, она ужасалась уворованному покою не меньше, чем только что ужасалась будничности движения, которым разворачивала младенца перед тем, как положить на подоконник. Как она посмела думать о чем-то другом, как посмела сбежать от своей вины, какое же она чудовище и сейчас, если может думать о ромашках и сказочно вкусных помидорах прямо с ветки?.. И она понуждала себя проживать недавнее снова, снова и снова, пока тяжкий сон не избавлял от этих усилий.
Но сон она возненавидела тоже. Сон перестал возвращать ее в совершённое преступление.
Она лежала на кровати, не двигаясь. По комнате ходили на цыпочках, шептали, будто мыши скреблись. В очередной раз она смотрела все тот же кадр: она осторожно стаскивает распашонку, разворачивает сизое тельце, кладет на подоконник, подтыкает подушкой, чтобы не упал. И эта подушка, и эта распашонка, и ощущение плечами падающего сверху холода, столько раз вызывавшие содрогание, на этот раз оставили равнодушной, не родили жалости, не окатили удушающей волной опоздавшей любви, — нет, в Лушке разверзлась пустота и поглотила все сомнения, все раскаяния, пустота потребовала, чтобы все закончилось быстрее, пусть умрет, раз уже умер, и чего она тянет, можно открыть окно целиком и быстро все закончить. И Лушка, лежа на постели здесь, встала и пошла там, пошла к окну, и остался только шаг, и рука поднялась, чтобы распахнуть раму и убить ребенка во второй раз.
— Нет!.. — закричала Лушка, вскакивая. — Нет!..
Соседки оцепенели, смотря испуганно. Лушка очнулась, пробормотала: я так… я ничего… Смирно легла обратно и стала лихорадочно вытаскивать из памяти всякое другое — помидоры, ромашки, вихляющегося бабкиного щенка — все давнее, детское, не имеющее к ней нынешней отношения, ну, еще что-нибудь, еще, ну, бабкино крыльцо, которое через щель проросло одуванчиком, на одуванчик то и дело тяжело опускалась пчела, а еще была козочка, такая же маленькая, как Лушка, но с бородой… еще, Господи, еще, лишь бы, Господи помилуй, не вернуться к только что пережитому кошмару.
Запас неопасных жизненных впечатлений быстро иссяк, Лушка стала вспоминать прочитанные книги. Книг обнаружилось мало, пошли в ход учебники, их она помнила, будто вчера из школы, но учебников было и вовсе всего ничего, и Лушка пожалела, что не училась, дура, как все, а то сейчас как раз бы ей выдали самый зрелый аттестат.
Незаметно она сместилась в сон. Все мучительное отстранилось легко, и сон не породил никаких сновидений.
Ей было стыдно, но, проснувшись, она почувствовала себя здоровой и впервые без всякой необходимости вышла в холл.
Холл длинный, с дверьми расположенных друг против друга палат, двери в верхней части стеклянные, чтобы поднадзорные в любой час были на виду; в простенках скучные канцелярские стулья схвачены брусьями ниже сидений — во избежание применения не по назначению и чтобы не утаскивали куда не надо; притиснутый к ним единственный стол по тем же соображениям привинчен к полу, и обитатели часами сидят вдоль стен напряженно и прямо, как в очереди к стоматологу. У сидящих завоеванные во внутривидовой борьбе постоянные места, которыми, пока не придет основной владетель, торопливо пользуются неудачники, в остальное время неуверенно слоняющиеся по прочей территории. Под финиковой пальмой у торцевого окна, забранного решеткой, расположилась Глафира, около нее, как всегда, толкутся верящие и слушают, вздыхая, про болезни, исцеления и смерти. Пальма выглядит поникшей и жалуется на изобилие — ее поливают все.
Лушка подумала, не подойти ли к Глафире и, может быть, сказать спасибо, но тут же поняла, что такое будет тут ни к чему, благодарность через слово явная ерунда и никому не нужна, тебе, может, жизнь вернули, а ты — спасибочки, и уже ничем не обязан и через неделю забудешь. Если благодарить, то — равно, спасли тебя — спаси ты. Лушка на всякий случай оглядела присутствующих, но явной опасности нигде не обнаружилось, никто в немедленной помощи не нуждался. Стало быть, благодарному чувству нужна длинная жизнь, чтобы дождаться подходящего случая и оплатить долг. Видать, Глафира знала, что говорила, когда изрекла от двери свое многозначительное «если» — если поймешь. Запросто не поймешь. А поймешь — так и этого мало, потребуется еще что-нибудь. Куда-то все поворачивается не в Лушкину сторону…
Свободных стульев не просматривалось, а впрочем, немыслимо вжаться меж двух баб, которые и сумасшедшие от того, что трутся друг о друга боками. И Лушка села на пол, как в спортзале. Она была в жарких носках и в тоненьком, но тоже жарком трико. От нечаянного комфорта тело благодарно томилось и всех любило. Перекликались голоса:
— Вот так взяла. И вот так проглотила.
— Ложку?..
— Это что! Вот я однажды… Ой, нет, не скажу!
— Дамы, вы обратили внимание, что нам дали на завтрак?
— Разве мы уже завтракали? Абсолютно не помню.
— У меня была такая коробочка. Нету.
— Невыносимо, дамы. У нас никакой общественной жизни. Давайте составим какое-нибудь заявление.
— Пусть кино покажут, ага. Про любовь.
— Любовь? Абсолютно не помню.
— Мужайтесь, дамы, нам повезло, мы никогда не заболеем СПИДом.
— Телевизор тоже обещали починить.
— У меня носовой платок. Платочек такой. Украли.
— Не украли. Взяли.
— А я знаю… Ой, нет, не скажу!
— У кого сегодня карандаш, дамы?
Притащили зашухаренный карандаш, кто-то выдрал лист из тетради. Составили заявление про любовь и телевизор. Желающие нацарапали подписи. Дама, кроме подписи, изобразила себя в красивой прическе. Выбрали делегацию. Кроме выбранных, в делегацию вошли все, кто хотел. Делегация прошествовала по холлу и через решетку просунула петицию дежурной сестре.
Пока дама возглавляла общественную жизнь, ее место на стуле заняла, протиснувшись бочком, старуха с бантом на цыплячьей шее. Бант был сделан из газеты «Правда». Старуха чопорно положила на колени сумочку тоже из газеты. Из сумочки торчал всем напоказ носовой платок натурального вида, платок выглядел чужим. Лушка испугалась, что сейчас начнется визгливый скандал, но все сидели-стояли спокойно, а старуха счастливо поглядывала на тех, кто не успел перехватить свободный стул и продолжал нищенски жаться по обочинам.