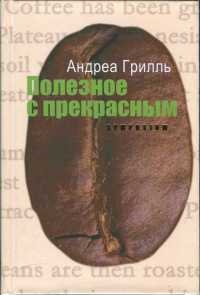Книга Кровожадные сказки - Бернар Кирини
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Вы спросите: так что же, слушатели в Королевском театре стали свидетелями чуда? «Бесспорно!» — ответил бы я, если б концерт на том и закончился; увы, троекратное увы! — продолжение оказалось куда менее успешным, более того — мы стали свидетелями подлинного катаклизма. Вот что произошло. Сначала к изысканной музыке гаудиофона примешался какой-то шумок. Слабый, но раздражающий. Гауди продолжал играть — так, словно ничего не случилось, с прежней лихорадочной страстностью; его пальцы летали по клавишам с виртуозностью, какой в нем прежде никто не замечал (его посредственные пианистические способности были общеизвестны), ноги жали на педали под инструментом, рука время от времени тянула за веревочку, и посторонний звук ему как будто нисколько не мешал. Возможно, он его попросту не слышал?
Между тем звук усилился, стал различим не хуже остальных и моментами даже перекрывал их. Плюс к тому из клапанов на боках центральной трубы начали вырываться завывания, словно саксофонист ухитрялся давать петуха в начале каждого такта. Мелодия все еще вытекала из гаудиофона, однако, чтобы ее расслышать, приходилось абстрагироваться от всех посторонних шумов. Вскоре доносившиеся со всех сторон крики, скрип, скрежет, сирены и хруст практически совсем ее заглушили. С самого начала концерта ни один слушатель не промолвил ни слова, но теперь по залу побежал шепоток. Внезапно Гауди расхохотался — нервным, издевательским смехом, как смеется бесноватый или развратник, заметивший купающуюся нагишом девушку и готовящийся совершить пакость. Я поежился, ужаснувшись перемене в лице Гауди: в начале концерта оно было покойным, теперь же как-то сморщилось, съежилось и перекосилось. Было непонятно, все ли идет, как надо, или что-то произошло — внутри чудища или в мозгу его создателя, — испортив творение и стремительно подталкивая творца к бездне? Мы наблюдали за разворачивающейся катастрофой. Гауди дергался, потел, простуженно сопел и яростно колотил по клавишам. Гаудиофон трясся, из клапанов вырывались все более странные звуки, в воздух летели пыль и мелкая крошка. Некоторые из нас затыкали уши, защищаясь от пронзительного свиста. Внезапно от инструмента оторвалась огромная деревянная доска и рухнула на пол. Я хотел выйти из зала, но какая-то могущественная сила пригвоздила меня к креслу.
Через десять минут адских терзаний стало очевидно, что гаудиофон не переживет представления. Он разваливался, как древний замок, не выдержавший битвы со временем. Опасаясь за свою жизнь, сидевшие в первых рядах слушатели столпились в проходах. То, что доносилось до наших ушей со сцены, больше не было музыкой, хотя обрывки мелодий то и дело вырывались на поверхность. Раздавались резкие щелчки, словно рвались стальные тросы, что-то трещало и хрустело, как корпус тонущего корабля. На глазах у изумленной публики гаудиофон распался: труба разломилась пополам и опрокинулась назад, боковые части обрушились, как трухлявый остов. Густой серый дым встал стеной между сценой и залом; две минуты ничего не было видно, а потом все успокоилось.
Когда дым рассеялся, мы увидели Антонио Гауди: он сидел на обломках своего изобретения, уставившись куда-то вдаль, и напоминал рыцаря, попирающего ногой тело убитого в схватке дракона. Мы взирали на эту дивную картину со смущением, печалью и жалостью, не зная, аплодировать или нет. Тишина длилась около трех минут: так бывает в перерывах между частями произведения, когда публика не знает, закончил артист или будет играть дальше. Впрочем, на сей раз все было ясно как день: концерт окончен, поскольку играть больше не на чем. Наконец из разных концов зала донеслись редкие робкие аплодисменты. Музыкант дважды поклонился, спустился с горы обломков и спокойно покинул сцену. Зал ожил, слушатели стряхнули с себя оцепенение и направились к дверям, шепотом обмениваясь репликами.
Из театра я вышел не поздно, но чувствовал себя полумертвым от усталости, а когда лег, долго не мог заснуть. Как описать в колонке прошедший вечер? Чем был концерт — чудом или провалом? Что мы видели — гениальное творение или грубое надувательство? Окончательно погиб гаудиофон или изобретатель сохранил чертежи и сумеет построить новый, переделав его, чтобы не взорвался в полете, как первый? Если новые гаудиофоны все-таки будут построены, найдутся ли композиторы, пожелавшие написать для него партитуры? А что станется с Гауди? Накануне журналисты тщетно звонили в дверь его дома — он им не открыл и, судя по всему, покинул город. Я музыкальный критик и не знаю ответов на эти вопросы. Надеюсь, сумею объяснить читателям, что дать оценку случившемуся во вторник вечером в Королевском театре сможет только время, оно назовет это искусством или заклеймит мистификацией. Посмеется ли тот, кто будет читать эти строки век спустя, над моими наивными попытками выставить г-на Гауди клоуном или шарлатаном? Или он удивится осторожности, помешавшей мне назвать его бессмертным гением, и подумает, что современники не способны по достоинству оценить великого артиста?
Услышать голос Башни
(Франция, 1962)
Странное прошение в мэрию Парижа подал Йоши Мураками: знаменитый японский композитор попросил — всего-то-навсего — разрешения разместиться с командой и оборудованием у подножия Эйфелевой башни и с помощью революционной методики — накануне он продемонстрировал ее прессе на уменьшенном, восьмиметровом макете — вызвать «металлические завывания» стальных балок памятника. Доктор физических наук Мураками много лет изучает звуковые свойства металла, и не только при ковке, штамповке или чеканке, но и при поддуве мехами или захвате механическими рычагами, способными произвести очень короткие и очень быстрые сотрясения. Мы помним «Гудения», странную композицию для органа, стальных тросов и автомобильных кузовов, сочиненную в Токио четыре года назад. Она не стала вехой в истории музыки, но вызвала интерес у многих меломанов во всем мире. Исполненная годом позже на сталелитейном заводе в Шотландии «Жидкая промышленность», произведение куда более смелое и убедительное, стало предтечей интересных методик в техниках звукового творчества, разработанных японским музыкантом.
«Произведение, которое я собираюсь предложить сегодня вашему вниманию, является одновременно завершением и поворотом в моих разысканиях, — объяснял он накануне журналистам, заинтригованным Эйфелевой башней в миниатюре, перед которой стоял Мураками. — “Всемирная выставка” — уникальное в своем роде произведение. Представление будет бесплатным и может состояться в одном-единственном месте: на Марсовом поле, в Париже. Инструмент, на котором будет сыграна пьеса, тоже уникален: речь, как вы, конечно, уже поняли, идет об Эйфелевой башне». И Мураками пустился в объяснения; множество научных терминов и аппроксимативных оборотов, которыми пестрела его речь, помешали мне уловить все тонкости, но я готов утверждать, что композитор хотел «исторгнуть завывания из Башни» и сотворить из них музыку, «подобную крикам подводным животных», не причинив вреда ни памятнику, ни зрителям. «Шум выйдет потрясающий, — утверждает Мураками, — голос Башни донесется до Малакофф, Левалуа, Сен-Манде и Пре-Сен-Жерве. Я написал для нее сочинение, и это одно из лучших моих творений: каждый винт, каждая заклепка, каждый сантиметр опор сыграют собственную роль, каждый трос, каждая ступенька лестницы помогут сооружению зазвучать как огромный, устремившийся в небо стальной оркестр, парящий над прекраснейшим городом мира». Музыкант коротко напомнил историю памятника: ее электрификация (1900), ее использование для радиосвязи с Касабланкой (1907), проекты ее разрушения (1913, 1920), нелепые пари и попытки самоубийства, двести пятьдесят тысяч лампочек, которыми ее украсили для рекламной кампании автомобильного магната (1925), ее оккупация — сначала немцами (до 1944-го), потом американцами (1945) и установка на верхушке телевизионных ретрансляторов (1957). Превращение Эйфелевой башни в гигантский музыкальный инструмент, заключил он в витиеватых выражениях, станет «осуществлением несвойственной для нее задачи» и «позволит ей стать тем, чем она заслуживает быть».