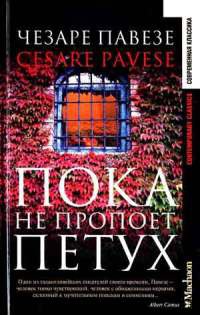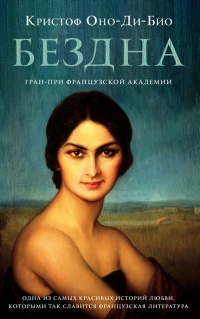Книга Зимняя кость - Дэниэл Вудрелл
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Тот, который мне никогда трогать нельзя.
— Вот его и неси.
Разделочная доска была выветренным кряжем из стены сарая, испещренным клубками порезов и заляпанным разной кровью. Сынок уложил доску к ногам Ри, и она одну белку бросила сверху, остальные отложила. Когда вернулся Гарольд с ножом, с ним вышла Гейл, встала на крыльце, прихлебывая кофе.
Ри сказала:
— Эй, Горошинка, как спалось?
— Как всегда, хорошо.
Сынок пихнул Ри локтем в бок, сказал:
— Покажи мне, а?
— Я вам обоим покажу, — Гарольд, не отходи далеко.
Она растянула белку в длину и вогнала нож в шею:
— Так, их разделывать труднее, чем кроликов, но все равно, вообще-то, не слишком трудно. Представляйте, что костюм белке кроите — только ты его с нее срезаешь, а не надеваешь. Раскрываешь на шее, вот тут, отрезаешь запястья, вот так, и вспарываешь руки, отрезаешь лодыжки так вот, вспарываешь ноги, потом вот так разлатываешь посередине и все части собираешь. У них кожа к мясу крепче липнет, чем у кроликов, поэтому надо тянуть, а помогаешь себе лезвием — вставляешь между шерсткой и мясом. Гарольд, давай сюда руку — и дергай за кишки.
— Не буду я кишки трогать!
— Не бойся — она мертвая. Тут нечего бояться.
Гарольд медленно отступил к Гейл на крыльцо:
— Я не боюсь, мне просто не хочется.
Сынок присел на корточки над разделочной доской и сунул кулак в белку, затем вытащил внутренности. Сморщился весь, покачал головой. Из кишок на кряже получилась мрачная кучка темно-красного, светло-красного, бурого и черного. Он посмотрел на кишки, потом на Гарольда. Сказал:
— Не хуже, чем рвоту подтирать или еще чего-нибудь. Следующую ты давай.
— А меня, если рвоту подтираю, всегда тошнит.
Ри следила за Сынком, когда он разделывал следующую белку. Сказала:
— Придется тебе много чего перестать бояться, пацан.
Гейл сказала:
— Гарольд, у тебя для такого кишка же не тонка, правда? — Погладила его по темным волосам, а когда глаза их встретились, нагнулась, поцеловала его в щеку; мальчишка вспыхнул, ткнулся головой ей в туловище, рукой обхватил ее за талию. — Я всегда знала, что ты храбрый маленький мерзавец.
— Нельзя же Сынку все самое неприятное всегда оставлять. Не по-людски это.
— Ну и пусть… Он же мне один только брат.
— Нет, не пусть. Гарольд, а ну давай спускайся сюда быстро. Не бегать же мне за тобой. Хуже будет. Давай спускайся и садись рядом. Закрой глаза, если хочешь, но руку засунь, к черту, и тащи на себя эти клятые кишки.
Гарольд не шевельнулся, и Ри встала, схватила его за руку. Сдернула со ступенек к разделочной доске. Он опустился рядом на колени, зажмурился, и она направила его руку в белкино нутро. Мальчишка сделал такое лицо, точно вот-вот расплачется, но кулак сжал и потянул — и тянул, пока внутренности не вывалились ни доску. Сказал:
— А вроде точно ничего особенною, а? Кишки у нее приятные такие на ощупь, теплые.
Гейл сказала:
— Вы поглядите на Гарольда! Поглядите, кто у нас по-прежнему маленький храбрец, я так всегда и думала.
Казалось, Гарольд сконфузился, но был доволен, встал над кучкой внутренностей, посмотрел на нее сверху:
— Мы же все равно это есть не будем, правда?
— Не-а.
Сынок с Гарольдом, сияя, кинулись друг к другу, ударили ладонь в ладонь. На миг замерли, хихикая, и аккуратно прокатились красными пальцами друг другу по щекам, рисуя боевую раскраску. Они хохотали и прыгали по утоптанному снегу двора, размахивали кровавыми руками, а Ри кинула последнюю белку на разделочную доску и нагнулась кроить ей костюм.
На полный желудок их одолел какой-то покой, и Ри завалилась на диван. Растянулась на спине, закинув длинные ноги на подлокотник, на глаза положила кухонное полотенце, чтобы картинки, мелькавшие в голове перед глазами, мельтешили на темном фоне ярче. Крохотный пурпурный кружок раздулся в большой синий — раскрывающуюся пасть, может, а внутри этой лоханки тьма-тьмущая светлячков вскрывалась искорками, но их искрящийся свет был всех цветов, что известны разуму, и они все время чпокали то одной краской, то другой. Из лоханки проросло красное облако тумана — и сжалось в обычное скрюченное деревце на вершине холма, над ним — старое морщинистое небо. Морщины расселись, и там возник голубой глаз — он моргал, пока Ри не оказалась на дереве: сидела на ветке, болтала ногами, а под нею расстилался внезапный бурный океан. В нем были волны, они скакали, как танцовщицы. Между танцовщицами в океане кучкой паслись коровы, а многие другие пухли, раздувались и жутко плавали на боку, медленно погружаясь, сразу за волнами, пока откуда-то сверху не налетели зубцы вил и не прокололи всем сразу эти раздутые брюха, не выпустили ветер из кишок стольких вздутых коров, что ветром этим Ри скинуло с дерева в хрупкие зеленые джунгли. Те разлетелись в дым у нее за спиной, когда она побежала обнимать всех, кого знала, ну вроде бы, по крайней мере, у нее было такое чувство, что она их знает, а они глазами с нею не встречались, не здоровались, не останавливались даже объяснить дорогу. И чувствовала она лишь, что потерялась, а неистовые слова ее кричались на таком языке, которого никто, похоже, не слышал. Она поднырнула под желтый лист, большой, как завтра, и припала к гигантским губам сквозь все время — они могли бы засосать дух ее целиком, от дней девичества до нынче, единственным умелым чмоком. Губы целовали и чмокали ее сладко-сладко, будто она детка до сих пор и навеки, но — и это ее насторожило — несло от них стоялым, они на нее давили, как вдруг сердце всего разок стукнуло — и ее платье уже распалось, как ставни на окне, и она встала вся явленная, женщина, и…
Кухонное полотенце спало с ее глаз, мелькающие картинки утонули в свете — губы при этом погрузились последними, а она чувствовала, как пальцы ее тянутся к ним, схватить, удержать к себе поближе. Ри открыла глаза — всего в паре дюймов от ее носа было лицо дяди Слезки, с такого расстояния его растаявшая щека выглядела громадной, как континент на глобусе. Он сказал:
— Думаешь, я про тебя забыл?
У континента была своя вулканическая история, просторы пустошей, бурые горные кряжи, на которые вечно лил дождь из трех слезинок. Глаза Ри все это восприняли, пока она боком скатывалась с дивана под дядю, на колени и прочь через всю комнату. Уползая, спросила:
— В смысле — забыл про меня? А?
На дяде Слезке была коричневая кожаная куртка, в паре мест располосованная лезвием и снова зашитая толстыми кожаными нитями, и маскировочная кепка на зеленое время года. Темные седеющие волосы у него вяло и жидко висели. Черные джинсы застираны кое-где до белизны, а ботинки высокие, мышиные, на шнуровке. И где-то на себе он носил оружие.