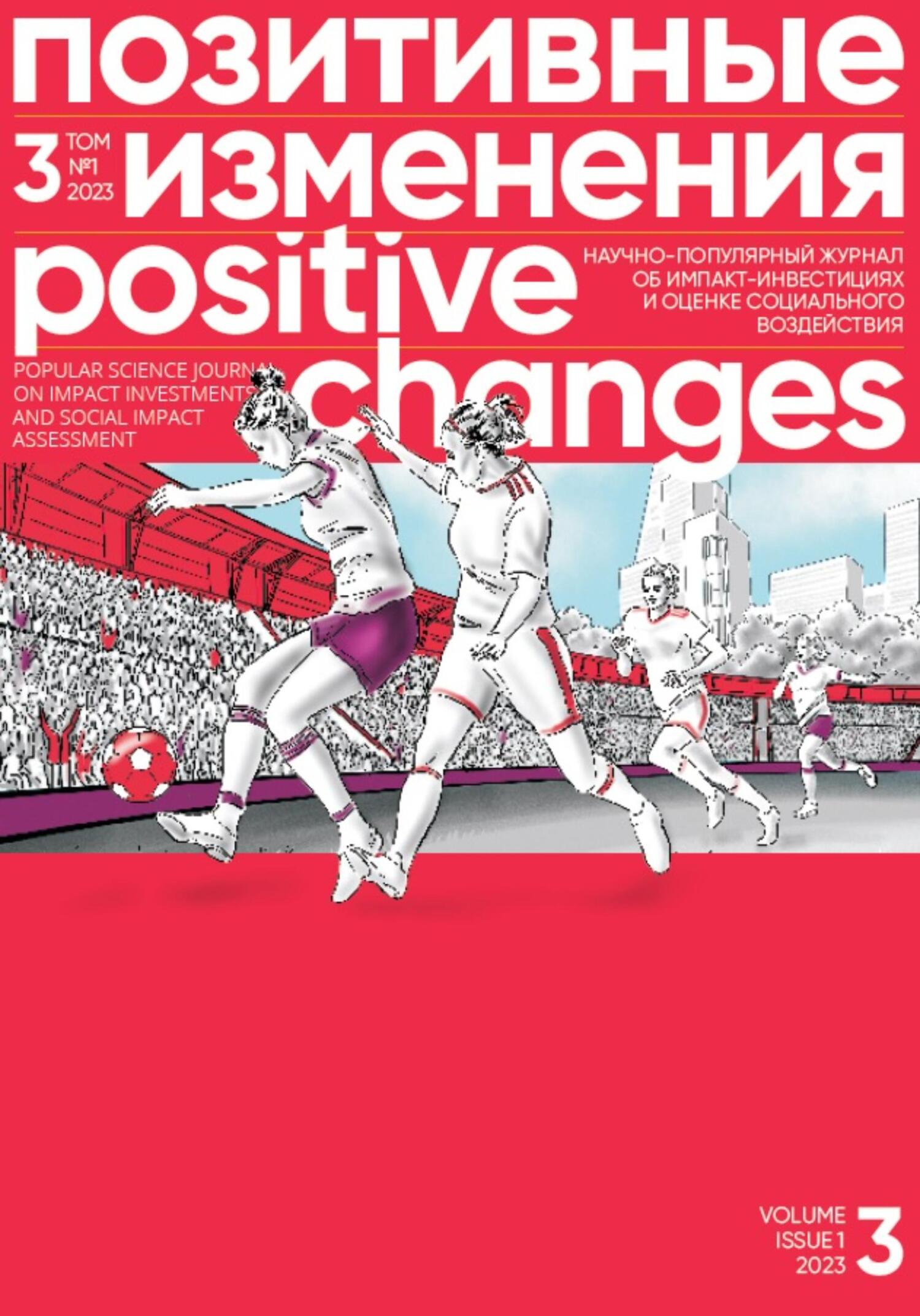Книга Руки женщин моей семьи были не для письма - Егана Яшар кзы Джаббарова
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Из-за болезни и неправильно стоящей стопы я не могла носить каблуки, я никогда их особенно не любила, но именно в тот момент, когда я потеряла возможность надеть их без раздумий, стала мечтать о каблуках. Я зачарованно разглядывала туфли в обувных, завистливо оборачивалась на уверенные ноги женщин, радостно прислушивалась к характерному стуку в помещениях — я решила, что после операции обязательно куплю себе красные туфли на высоких каблуках, которые будут стучать при ходьбе.
После операции мои ноги замотали эластичным бинтом, они спокойно лежали на больничной постели, ожидая, когда им вновь придется встать и идти. Бинт окутывал их, как пеленка, обнимающая новорожденного. Когда мне разрешили встать, я сразу почувствовала: больше нет боли, мышцы спокойно делают свою работу, словно, наконец, стали свободны. Оказалось, что сама способность ходить интереснее каблуков, поэтому вместо них я купила кроссовки.
X. Горло
Во время свадеб на красивых длинных шеях женщин можно было увидеть украшения: коллары, матинэ, ожерелье-оперу, цепочки, — они обязательно должны были быть золотыми, с россыпью драгоценных камней. Эти украшения были посланиями от одной женщины к другой — они повествовали о любви мужа, о помолвке, о ссоре или искуплении вины. Никто не рассказывал историю своих украшений, обычно она додумывалась зрителями, как сцена артхаусного кино. Мама не любила бусы и ожерелья. Откладывая деньги с зарплаты, она покупала себе красивые серебряные кольца. Одно она подарила мне: серебряное, с белыми и розовыми фианитами, по размеру оно подходило только безымянному пальцу. И хотя оно совершенно не идет мне, я всегда беру его с собой, иногда надеваю, чтобы почувствовать связь между нами. Жемчужное ожерелье, доставшееся ей от матери, моей бабушки, мама никогда не носила — оно лежало в коричневой коробке, которую она привезла из Грузии.
Мать моей матери никогда не снимала хрупкое ожерелье из дикого жемчуга, оно лежало на ее смуглой коже вплоть до момента, когда соседки омыли ее уставшее тело и завернули в плотный белый саван. Жемчужное ожерелье они отдали дочери как вечное напоминание об украшениях, рассказывающих свои истории после смерти владелицы. Из-за рака бабушку часто бросало в жар, горло сжималось в приступах удушья, она открывала все окна в маленькой спальне и ложилась на пол под ними; периодически, страдая от ночных болей, она выходила на балкон и любовалась на ночное грузинское небо. Грузинское небо было красивее всего, что я когда-либо видела: большой зрачок полной луны низко висел над землей, казалось, что, подпрыгнув, можно легко коснуться пальцем. Ночь накрывала маленькую грузинскую деревню плотной темнотой, словно некто мягко нажал на небесный выключатель. Звезды перемигивались друг с другом, передавая местным жителям целые поэмы на морзянке, которые оставались не расшифрованными. Бабушка безмолвно наблюдала за телами звезд в небесном гробу, за тем, как их сверкающие белые саваны перестают излучать свет, уподобляются тьме и становятся ее частью. Она знала, что эта участь ожидает каждого живущего на земле, но ей было жаль, что там нельзя будет шить одежду, постукивая педалью швейной машинки. В гробу не было звуков, это было пространство, где речь возвращалась Творцу.
Мать моего отца не носила украшений — когда она шла собирать базилик и травы, на шею она обычно накидывала платок. Под азербайджанским солнцем шея быстро покрывалась маленькими капельками пота. По вечерам они сменялись россыпью усталости и сожалений: всякий раз в конце трудового дня ей казалось, что можно было сделать больше. И она засыпала с легким вздохом разочарования. Ночь быстро накрывала склоны зангелановских гор, размывала пики горных вершин, растушевывала контуры деревьев: мир становился размытым, как береговая линия после цунами. Убедившись, что свидетелей нет, мать моего отца шепотом произносила ночную молитву, слова ударялись друг о друга, как бусины четок, и, свернувшись в клубок, скатывались вниз по гортани. Лишь однажды она пропустила молитву, в ночь своей смерти: приоткрыв рот, чтобы начать говорить, она поняла, что слова безвольно повисли на связках и вернулись Творцу.
Женщины предпочитали не говорить вслух: все свои жалобы, проклятья мужьям, сожаления о слишком быстро прожитой и непонятной жизни они упаковывали в молитвы, которые шепотом отправляли неизвестному адресату. Наутро после молитвы становилось легче, казалось, что выпущенные в мир слова уносили с собой эту ношу. По ночам я часто слышала, как мать молится.
После моей операции нам с мамой пришлось спать на одной кровати; по ночам, когда мать думала, что я сплю, она начинала молиться, она рассказывала Аллаху обо всех своих переживаниях и страхах и просила его защиты. Это было странное чувство: быть взрослой и спать с родителем в одной постели. Тела, лишенные былой легкости и связи, тяжело переваливались из стороны в сторону, уклонялись от случайных столкновений. Повернувшись в противоположные стороны, мы думали о разном. Я практически не могла спать: мне нельзя было лежать на животе из-за вшитого стимулятора, а на спине я спать не умела. Швы чесались,