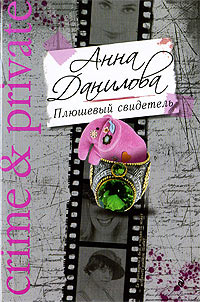Книга Алмазы Джека Потрошителя - Екатерина Лесина
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Не знаю. Возможно.
Не здесь. Она стояла чуть дальше. Спиной. Она считала звезды и была прекрасна в убранстве из теней и туманов. Я остановился.
Я не думал, что смогу убить.
Я подошел сзади. Не крался, нет. Но она была так увлечена звездным небом… и нож сам лег в руку. Один взмах, и горло вскрыто. Женщина пытается кричать, закрывает ладонями горло, и в какой-то миг я пугаюсь: вдруг у нее получится остановить кровотечение?
Видела ли она мое лицо?
И я бью ее снова.
Сейчас я понимаю, что приступ паники не имел под собой оснований. Человек с распоротым горлом не проживет и минуты. Не мне ли, врачу, оперировавшему Ее Величество Викторию, Божьей милостью королеву Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии, защитника Веры, императрицу Индии[1], знать об этом.
Фредерик Джордж Абберлин проснулся рано, на сей раз его разбудил шорох, донесшийся из угла комнаты. Абберлин не шелохнулся. Он продолжал притворяться спящим, но пальцы впились в эфес палаша.
Привычка спать с палашом появилась в Индии, куда Абберлин попал в возрасте весьма юном. За годы службы он успел повидать всякого и обзавестись рядом престранных, с точки зрения обыкновенного человека, привычек.
– Мистер Абберлин, – шепотом окликнули его. – Это я. Уолтер.
Абберлин открыл глаза и снова удивился тому, что видит: низкий потолок, не расписанный аляповатыми узорами, а тщательно побеленный. Впрочем, сквозь побелку все равно проступают пятна сажи, которая въедалась в перекрытия десятками лет и не собиралась сдаваться.
– Который час? – Абберлин с трудом разжал пальцы, впившиеся в эфес.
Губы растрескались от жажды. Похоже, снова снился Лакхнау.
– Семь пополудни.
Уолтер подал деревянную чашку с водой. Он помог держать – левая рука, в которой сидел осколок стрелы, плохо слушалась, а сегодня и вовсе закостенела. И Абберлин подумал, что когда-нибудь рука откажет.
Он позволил Уолтеру поднять себя и – он с трудом переставлял ноги: сны о Лакхнау выматывали – довести до ванны. Теплая вода вернула к жизни.
Уолтер принес ужин. Хлеб. Молоко. Сыр.
Инспектор Абберлин мог бы позволить себе больше, но не позволял.
В Бихаре, Мадрисе, Раджастане не было и этого. А говорят, что все повторяется… что сейчас там хуже, чем при Ост-Индской кампании, хотя разве возможно, чтобы хуже?
Стиснув зубы, Абберлин отогнал воспоминания.
– Эх, к доктору бы вам. Вот у моей сестры, если позволите сказать, муженек был буйный. Такой буйный, что прям спасу нет. Оно и понятно – ирландец. Я ей говорю – на кой тебе ирландец? Пьяницы, вы уж извините за прямоту, но что бы там ни говорили, а я своего мнения не переменю. Вы ешьте, ешьте… не торопитесь.
Не заберет никто.
Но последнее осталось несказанным. В глазах Уолтера инспектор видел жалость. Сочувствие он бы еще вынес, но жалость – это чересчур. И уволить бы наглеца, вот только… кто другой пойдет служить к Абберлину?
– Так вот я о чем. Она-то к доктору пошла. Сказала, будто бы сама в буйство впадает… а сестрица моя, если уж захочет врать, то так наврет – в жизни не поймешь, где правда. И доктор ей капелек дал. Хорошие капельки…
– Опиумные.
– А хоть бы и так, – с легкостью согласился Уолтер. – Главное, что работают.
Может, и стоило бы прислушаться к совету. Опиумный дурман принесет спокойные сны, и тело отдохнет, а разум и подавно. Инспектор Абберлин обретет свободу. Вот только как-то неправильно все это: нельзя забывать тех, кто там остался.
…мертвые и живые… живые почти как мертвые… не различить.
Кровь гниет. Плоть тухнет.
Тошнота.
И пить охота. А надо драться. Те, которые по другую сторону стен, тоже устали. Мятежники… именем королевы… королева за морем. А в море вода. Соленая. Но пить все равно охота. И есть. К голоду нельзя привыкнуть, но наступает миг, когда перестаешь его замечать. Это значит, что время пришло.
Уже почти.
Только драться все равно надо. Вставай, Абберлин. Бери свое ружье. Иди на стены. И стой там, дразни красным мундиром проклятых обезьян. Маши им руками. Кричи. Пляши.
И смейся в лицо смерти. Пусть увидят, как умирает настоящий британец.
Красный мундир давным-давно упрятан на самое дно сундука. Рядом с ним – коробка с медалью. И офицерский патент. И замшевый мешочек со стеклом. Это Уолтер думает, что в мешочке стекло.
Он никогда не видел необработанных алмазов.
А узнай правду, что тогда? Перережет глотку?
За воду убивали. За хлеб убивали. Просто из милосердия тоже убивали. Алмазы на самом деле – ничто. Еще кусок памяти. Но Уолтер не знает. Уолтер думает, будто хозяин его на пороге Бедлама стоит. Жалеет.
Ложь. Все – ложь. Человек человеку… смерть. Только никому нельзя говорить об этом – не поймут. И Абберлин молча доедает скудный ужин, облачается в платье, чистое, хотя изрядно поношенное. В кармане – кастет. В тайных ножнах – клинки. И трость-шпага придает уверенности.
Инспектор вышел из дому в четверть девятого.
Он старался выглядеть так же, как выглядят прочие люди среднего достатка и среднего возраста. И пусть бы костюм у Фредерика Абберлина был вполне себе заурядным, но внешность, легкая хромота и особый мертвенный взгляд не позволяли ему смешаться с толпой.
Сегодняшний вечер грозил быть удачным. Августовская жара спала, освободив город от привычной вони. И легкие ветра растащили смог.
Абберлин хромал – некстати разнылось колено, – стараясь держаться стен. Грохотали повозки. Ржали лошади и ругались кучера. Мелькали лица, неразличимые, неинтересные. Констебли, которых было больше обычного, вежливо кланялись и поспешно исчезали, словно опасаясь, что Абберлин запомнит их или, хуже того, обратится с просьбой.
На улицы Уайтчепела уже выбрались шлюхи. Перепуганные, они держались стайками, ревниво поглядывая друг на друга, понимая, что заработать не выйдет, но все ж не решаясь разойтись.
– Эй, инспектор, – окликнула Абберлина одна, не то смелая, не то новенькая, не сталкивавшаяся с ним прежде. – Чего гулять изволите?
Она отошла от товарок и оказалась слишком близко, чтобы Абберлин чувствовал себя спокойно.