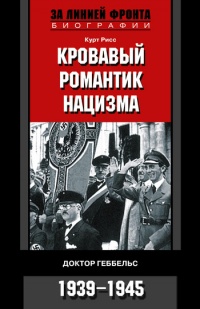Книга Мобилизованная нация. Германия 1939–1945 - Николас Старгардт
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Федеративная Республика Германии унаследовала союзнические указы с признанием фактов преследования политических узников и евреев, потому суды и административные органы – пусть и нехотя – стали отзываться на требования уцелевших о компенсациях. Марианна Штраус подала исковое заявление уже в сентябре 1945 г., однако оно, подвергаясь проверкам и переоценкам через призму разных законов и постановлений ФРГ, гуляло по инстанциям еще в 1970-х гг. Союзники не приняли никаких указов относительно цыган, свидетелей Иеговы или гомосексуалов. На протяжении десятилетий западногерманские суды отбивались от их претензий, поскольку те самые гражданские служащие и судьи, каравшие представителей этих групп как «антиобщественный элемент» или «пацифистов» в эпоху Третьего рейха, рассматривали их дела в новую эру вплоть до выхода на пенсию в конце 1950-х и на заре 1960-х гг. Особняком среди бывших политических узников стояли коммунисты, требования которых механически встречали отказ на том основании, будто они поддерживают «тоталитарный» режим.
«Холодная война» изменила статус претендентов на компенсации и в Восточной Германии. Мужа Фриды Римпль – свидетеля Иеговы по имени Йозеф – казнили в декабре 1939 г. за отказ служить в вермахте. Вдову признали «жертвой преследований национал-социалистов», и она стала получать пенсию от Управления социального обеспечения Саксонии; в ноябре 1950 г., однако, женщине прислали письмо с сообщением об «отзыве признания» и прекращении выплат[1174].
Несмотря на ожесточенную полемику времен «холодной войны», молодежь с обеих сторон оказалось не просто убедить вступить в ряды вооруженных сил, особенно в свете перспективы войны немцев с немцами. В Восточной Германии 950 000 членов движения коммунистической молодежи массово отказались от призыва в ряды новой Национальной народной армии, не желая отрекаться от идеалов «демократического пацифизма». Хотя большинство западных немцев по-прежнему смотрели на военную службу в вермахте положительно, перевооружение и введение обязательной воинской повинности в 1956 г. столкнулись с противодействием разномастной коалиции социал-демократов, христианских пацифистов и консерваторов. Некоторые – например Густав Хайнеман, подавший в знак протеста в отставку с государственного поста в правительстве Аденауэра, и Мартин Нимёллер – не хотели восстановления армии в Германии и видели страну нейтральной в надежде таким образом достичь национального воссоединения. Та же коалиция в ближайшие годы оказывала сопротивление присутствию на немецкой земле американского ядерного арсенала[1175].
Теперь, однако, роль вновь обострившегося, но лишенного пафоса воинственности культа «павших», каким бы националистическим и пригодным для провозглашения себя жертвой он ни был, не состояла больше в служении милитаризму. Когда-то давно, еще в феврале 1943 г., Геббельс поручил пропагандисту 6-й армии Хайнцу Шрётеру сделать подходящую подборку из писем сражавшихся под Сталинградом немецких солдат. Предвкушая создание «героической саги Сталинграда» как соперничающей с легендами о нибелунгах сказки, Геббельс резко свернул и положил под сукно весь проект, поскольку осознал, насколько отрицательно реагировала немецкая публика на подобную мифологизацию поражения. В 1950 г. Шрётер самостоятельно опубликовал в маленьком западногерманском издательстве сборник из тридцати девяти писем под названием «Последние письма из Сталинграда». Но, когда в 1954 г. подборку заметил «Бертельсман» с его книжными клубами, она сделалась достоянием широкой аудитории. В иных текстах, изначально и предложенных Шрётером Геббельсу, наличествовали явные признаки фальсификации: слишком универсально звучал авторский голос, чрезмерно выпирали неточности в фактах, явно доминировали душещипательные эпизоды. Тем не менее материал коллекции скоро признали подлинными рассказами обреченных воинов, их письма ценились за элегический, трагически героический тон – они идеально подходили для чтения вслух в ходе акций поминовения усопших, но служили не тем целям, которые преследовал Геббельс[1176].
Возникновения «Сталинградского синдрома» не произошло – не возникло никакого желания отомстить за поражение. Напротив, письма превратились в часть культуры примирения. Переведенные на множество языков, они преодолели «железный занавес» и появились в русских и восточногерманских коллекциях; они даже сделались частью обязательного чтения в японских школах. В тот же самый год, когда сборник Шрётера увидел свет, ветеран войны Генрих Бёлль представил на суд публики небольшой рассказ о тяжелораненом солдате, отправленном на операцию в импровизированный госпиталь, который, как постепенно понимает умирающий, оборудован в школьном здании. В конечном итоге он узнает свой почерк в написанной мелом на доске и незаконченной фразе из шиллеровской версии эпитафии Симонида 300 спартанцам: «Странник, весть отнеси всем гражданам Лаке…» Именно эта строка, приведенная Герингом в речи о сражавшихся в Сталинграде немцах, в то время чрезвычайно растрогала Бёлля. Критикуя истоки мифа, молодой автор обвинял гуманистическую гимназию во введении в заблуждение молодежи ложным понятием патриотизма, вторя Эриху Марии Ремарку и Уилфреду Оуэну, говорившим о том же еще после предыдущей войны. Немецкое слово «Opfer» ни в коем случае не утратило своей двойственной коннотации активной «жертвы», приносимой в акте самопожертвования, и пассивной – объекта жертвоприношения. Однако, хотя в слове «павшие» по-прежнему звучало эхо добровольной патриотической жертвенности, поминовение усопших – павших на войне – тяготело к созданию представления о солдатах как о невольных, пассивных и невинных жертвах. Тут просматривается определенная неизбежность: поражение разрушило все надежды и чаяния, вынашиваемые во время войны, оставив только страдания – более властные тени тщетного героизма, чем всеобщее послевоенное убеждение, будто война на востоке могла быть выиграна. Итак, после всех апокалиптических пророчеств немцы каким-то образом оказались не «внизу, в неизвестности» (Ungewisse), как у Гёльдерлина, не в пропасти. Они перешагнули ее, очутившись на другой стороне[1177].
В конце войны Лизелотта Пурпер была еще молода – вдова в свои 33. Когда в мае 1945 г. Красная армия заняла поместье Крумке, Лизелотта сидела тише воды ниже травы, опасаясь разоблачения как занятый в нацистской пропаганде фотограф, и работала помощницей зубного врача. В 1946 г. она переехала в Западный Берлин и вновь вернулась к профессиональной деятельности, впервые за всю карьеру воспользовавшись фамилией мужа – Оргель. В качестве ранних послевоенных тем для Лизелотты служили обитатели берлинского реабилитационного центра Оскар-Хелене-Хайм. Среди прочих она фотографировала и человека без кисти правой руки, учившегося обрабатывать напильником металлические заготовки. Ужасные раны войны выставлялись на первый план и раньше, например Эрнстом Фридрихом в бескомпромиссном антивоенном трактате 1924 г. «Война против войны», особенно ненавидимом нацистами из-за показанных автором жизненных трагедий. Теперь Лизелотта Оргель пользовалась наработанной в военные годы техникой резкого ракурса для подчеркивания значимости силы и целеустремленности человека, показывая зрителю, что простая работа руками не только способна помочь восстановлению разрушенного ландшафта Германии, но и укрепить искалеченные тела немцев[1178].