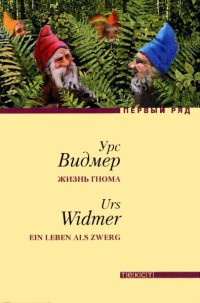Книга Дневник моего отца - Урс Видмер
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Фонарик мигал, но не сдавался. «Софи была окружена гусарами, посланниками возлюбленного. А Дидро с восторгом принимая поцелуи, переданные Софи, хотя иногда ему хотелось, чтобы на месте пахнувшего чесноком парня была нежная наездница.
— Ах, Дени!
— О, Софи!
Засыпая, Софи прижимала к груди медальон, на котором был изображен Дидро, а Дидро, ворочаясь в постели рядом с Нанеттой, представлял себе Софи. Только Софи, всегда Софи, свою единственную Софи. Речевые способности пениса, не в пример аналогичным способностям вагины, и в XVIII веке документально не подтверждены. Ну разве что отдельные возгласы — эй! хо-хо! ах! — в чисто мужском кругу. Но и тогда, как и ныне, ни одно мужское сокровище ничего не рассказывало о себе женскому, исключая, разумеется, случая Дидро и Софи. Теперь спать. — Отец поднес едва мерцающий фонарик к циферблату. — 22 часа 38 мин.».
Он подул на тушь, захлопнул книгу, пробрался на ощупь к шкафчику и положил ее под белье. Потом вынул Кларину открытку и попытался еще раз перечесть. Но фонарик уже окончательно выдохся, так что отец закрыл глаза и заснул прежде, чем его голова коснулась подушки.
Когда через несколько недель отца демобилизовали, в доме все уже было по-прежнему, как и до его службы в армии. Немцы не пришли, и опять женщины собрались под одной крышей. Клара, Нина, Йо, Хильдегард и Рёзли. Лягушонок, то есть я, играл в своей песочнице. Даже Рюдигер снова стоял на террасе, как на командирском мостике, и зычным голосом отдавал команды догам, бегавшим по саду. Хобби тоже сидела на своем привычном месте. Только аквариумные рыбки были новые, но об этом никто не догадывался. (Клара забыла старых при отъезде, и они умерли от голода или задохнулись. Во всяком случае, когда она вернулась, рыбки плавали кверху брюшками, и Клара сменила воду, завернула один из трупиков в газету и купила в магазине новых, точно таких же и ровно столько же, сколько было раньше.) Сорняки, которые за время ее отсутствия заглушили астры и далии, шпорник и мальвы, она выполола. (Клара и Нина проводили в саду целые дни и вычистили даже мох между плитками дорожек.)
Отец шел не как обычно, по дороге, а напрямик, по стерне только что убранного хлеба. Так короче. Дом светился от солнца, огромного, садившегося прямо в саду. Черный куб на фоне огромного огненного шара. На крыше в темнеющем небе торчала мачта-антенна. Взволнованный отец шел быстро, спотыкаясь о комья земли, так что ложка звенела в походном котелке, а штык бил по ногам. Каска, привязанная сверху к солдатскому ранцу, подскакивала при каждом шаге. Яркий солнечный свет слепил отца, но сомнений не было: там, перед домом, стояли тени, неподвижные, ожидающие. Тени женщин. Правда, даже прищуривая глаза и прикладывая к ним ладонь, он не мог различить, какая из них кто. Вон те силуэты перед гаражом — Йо и Хильдегард? А перед бочкой с водой — Нина? А около ворот — Рёзли? Две неподвижные тени, притаившиеся под магнолией, — доги. Это точно. И конечно же тень, что стояла у костра, — это Клара; самого костра не было видно, его пламя терялось на фоне расплавленного солнца, но дымок поднимался темно-красными клубами в синее вечернее небо. Рядом с Кларой два маленьких пятнышка: собака и ребенок. Отец, Карл, вдруг пустился в пляс, он махал руками, вопил от счастья, и, словно по команде, все тени тоже зашевелились и пропали в доме. И доги, и Хобби — из двух пятнышек она была покрупнее, — и даже ребенок, который двигался медленнее всех, сразу же исчезли в доме. Солнце зашло, оставив над горизонтом красное сияние, которое становилось все бледнее и наконец совсем исчезло, когда отец подошел к воротам и загрохотал — на нем были ботинки, подбитые гвоздями, — по гранитным плиткам садовой дорожки. Голубой сумрак перед дверью, почти темно. Он взлетел по лестнице в квартиру, вступил в коридор и по афганскому — а может быть, и персидскому — ковру, лежавшему в гостиной, торопливо прошел в свой уголок, к своей пишущей машинке. С ранцем на спине, с карабином за плечом и в фуражке, он, постанывая, напечатал все то, что накопилось в его голове за эти месяцы. (Долгими ночами у входа в туннель он перевел на немец кий язык и запомнил почти все, что знал наизусть из французской литературы.) Итак, он напечатал любовные воздыхания Береники Расина, конец «Кандида» — где герой, а вероятно, и сам господин де Вольтер хотят только возделывать свой сад — и то место из «Тартарена из Тараскона» Доде, где Тартарен хвастается, как он охотился на льва, все начало «Песни о Роланде», хотя совсем и не любил ее, он предпочитал «Тристана и Изольду», но не знал наизусть. Топчась взад и вперед на деревянной площадке у туннеля, он нашел собственные слова и для начала «Saison en enfer»[38]Рембо: «Когда-то, если память не изменяет мне, моя жизнь была праздником, на котором открывались все сердца и вино лилось рекой».
Допечатав лист до конца, отец рывком вытянул его и так быстро вставил новый, что стрекотание машинки почти не прекратилось.
И только когда в его голове, в его огромном черепе, больше ничего не осталось, ни единого слова, он оторвался от клавиш, включил лампу — над столом загорелся яркий свет — и быстро проглядел страницу, еще торчавшую в машинке; там были фразы из «Мещанина во дворянстве» Мольера, где месье Журден в изумлении выясняет, что он — гений, потому что, сам того не зная, всю жизнь говорит прозой; отец шумно вздохнул с облегчением и пошел по ковру назад в коридор. Там уже стояла Клара, а может, она все время стояла там. Вся в черном, молчаливая. Отец бросил ранец под дверь туалета, фуражку — на полку с обувью, карабин — в стойку для зонтов и обнял жену.
— Клара! — Он прижал ее к себе, и она поцеловала его онемевшими губами.
— Карл! — Она потянулась через его плечо и тоже включила свет, загорелась желтая стеклянная лампа под потолком, в ней валялись дохлые мухи. — Ах, Карл.
Карл отпустил ее, засмеялся:
— Да, это я! — И сбросил китель, пояс со всем, что на нем болталось, штыком, патронташем, шанцевым инструментом, в угол. Тут он увидел ребенка — меня — и поднял над головой. Я барахтался над ним, визжал, и он меня поцеловал. Я просто завопил от счастья, а когда снова очутился на полу, помчался в детскую и принес сигарету, скрученную из бумаги, конец сигареты я разрисовал цветными карандашами. Красным и черным.
— Смотри, папа!
Я выглядел совсем, как он, когда держал ее во рту! А еще на мне были сделанные из картона, очень похожие на отцовские, очки!
Правда, когда я вернулся в коридор, отец уже опять был около своего письменного стола и с любовью смотрел на бумагу, карандаши, ластики и скрепки, на «Sachs-Vilatte» и «Littré»[39]. (Клара стояла на коленях на афганском или персидском ковре и заправляла нитки, выдернутые гвоздями отцовских ботинок.) А тем временем отец то гладил свои африканские скульптурки, стилизованного мужчину с заостренной головой и торчащим пенисом с красным кончиком и такую же абстрактную женщину, у которой между ног была белая буква V, то постукивал пальцем по стеклу аквариума и радовался, что рыбки узнали его. Он выдвигал и задвигал ящики письменного стола — все, кроме верхнего, — нюхал тюбик клея.