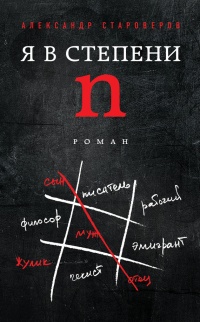Книга Московское наречие - Александр Дорофеев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
«Сплошные мощи! – нежно кивал в ее сторону Ра. – А мне-то как раз интересен духовный аппарат человека»…
Туза тоже влекло к мощам Мими, как к чудотворным, – поклоняться и припадать. Его покорил этот западно-протестантский, вероятно, взгляд на себя, когда ровным счетом ничего значительного не имелось – все чуть плоское, кривоватое и заниженное, – кроме самооценки, порождавшей такое достоинство, что несомая с любовью совокупность производила сильно впечатление. Случилось какое-то тектоническое смещение оценок – манила не стать, а нечто трудно определимое, подобное мимолетному состоянию природы.
«Есть у нее колокольчик для улавливания душ, как у великого китайского божества времени Тай-Суя», – говорил Ра.
Мими и сама напоминала маленький, беззвучно призывавший колокол. Много чего хотелось бы с нею – поднести жертву, оберегать от всего на свете, как одинокую букву, не связанную с другими в ясное слово. Ступала она по земле так, будто прислушивалась каждый миг к дыханию всей планеты. В зацветающей пустыне среди верблюжьей колючки и солянки все время исчезала, словно камешек соли в арыке. Хоть и была литовкой, но какого-то кошачье-египетского облика, чем, вероятно, и пленила Ра. Туз никак не мог припомнить, что означает, помимо родовой принадлежности, «литовка». Угадывалось сходство с растением, выросшим на скале, с листом папоротника, впечатанным в камень времен карбона, даже с самой земной корой. И каменная баба приходила на ум, а точнее – растворимая соляная кукла.
«Она вылитая Рагана, – нашептывал Витас. – Вредоносное существо, из тех оборотней, что превращаются хоть в кошку, хоть в щуку. Имя ей Подражание, и вьет она, снуя поспешно, петлистые веревки из песка. Поверь, она летает, где хочет, не тонет в огне и не горит в воде. К тому же сожительствует с чертом, а в нашем случае – с архонтом Ра. Он играет с ней в ножички и секретики»…
Но дружеские предупреждения не остерегли Туза. Женский пол Мими настолько загадочно усугублялся земным, что притягивал физически-неотвратимо, как всемирная бесовская гравитация.
Надеясь обрести покой, Туз рисовал карандашом пустыню. Занятие почти безумное, но умиротворявшее, кабы не пришел Ра с «Чашмой» под мышкой: «Смахивает на певобытное искусство, – кивнул на рисунок. – Но что-то ябит в глазах. Дико ябит!» И, возбудив Туза напитком и словом, удалился, сожалея о пониженной духовности.
Когда страница альбома плотно усеялась закорючками кустов и взбугрений, бесшумно подлетела Мими. «Забавно! Тут и Чюрленис, и арамейское письмо, – одобрила, указывая в уголок. – Гляди-ка, под этим холмиком я сижу, почти незаметная. А небо, пожалуй, не трогай, и так уже в глазах, знаешь», – замялась она. «Ябит», – согласился Туз и быстро начертал над пустыней «Мими», с мощным, как гром, ударением на первом слоге. Получилась какая-то фата-моргана космодрома, придавшая картинке болезненность земного одиночества. «Ну да! Вот так! В общем, ты уловил здешнюю геопатогенность», – коснулась Мими его плеча.
Давно известно – если долго отказываться и отвыкать, бросая, например, курево, то после временного успеха все наваливается с удесятеренной силой и вместо обычных пяти сигарет не хватает и двух пачек. Все псу под хвост! Насильственно-разделительное «от» быстро сдается предлогам, связывающим воедино. Само слово «предлог» наполнено знаменательными смыслами, включая замыслы, умыслы и намерения, которые были, конечно, у Туза, затеявшего рисовать пустыню с надеждой, что подойдет-таки Мими из любопытства.
«Хочешь, расскажу тебе о древнем Хорезме? – предложил он. – Ближе к ночи»…
Поздним вечером, когда лагерь утихомирился, они гуляли по хорезмийским развалинам среди оплывших стен. «Государство возникло на этих землях в седьмом веке до нашей эры, – говорил Туз, следя, как бы Мими не упала в канаву или арык, и не особенно вдумывался, смешивая в кучу арабов, монголов, улус Джучи, ханство и „ханэсэр“. „Что это? – спросила Мими, тронутая словом. – Хан и эсер в одном лице?“ „Можно и так, но если подробней, то Хорезмийская народная советская республика, – перевел он. – Возникла тут в двадцатом году. Предполагал ли такое Будда, ступая по этим пескам?“ И повлек Мими на глинобитную ступу, подобную растекшемуся от немоты колоколу.
Долго они сидели, глядя в даль, где не было ни единого огонька, но мельтешили отверженные тени. Перебирая в душе двенадцать струн кифары, он напевал про святых, марширующих строем в рай. Немало, наверное, прошагало их здесь в сторону Эдема, как, впрочем, и других, избравших иной путь.
«Я вижу Божественный промысел уже в том, как ловко крутится Земля вокруг оси и Солнца, – сказала Мими словно бы сама себе, подняв лицо к звездному небу. – Зима сменяется весной, лето осенью. Знаешь ли, ночью мы летим во вселенной быстрей, чем днем?» – повернулась к Тузу. «В чем тут фокус? – смутился он. – Или это намек, что даром теряю время?»
И в этот напряженный миг затмил вдруг звезды, опрокидываясь за голову, безмолвный переливчатый свет, точно распахнулся над ними позолоченный зонтик. Темных оснований в помине не осталось, будто раскололся небесный череп – треснул легко, как яичная скорлупа. Собравшись в пучок, лучи воспылали ярким очагом, и наконец все сущее запело на разные голоса.
То ли стремясь защитить Мими, то ли пользуясь случаем, Туз подмял ее, прикрывая. Некоторое время лежали тихо, настолько, что он напугался, не раздавил ли. Но внезапно ощутил, как силовые космические нити, искажая, словно на его картинке, пространство, опутали их. Планета набирала ход, и звезды замелькали. Зенит над горизонтом и надир под ним слились в звенящую и зовущую комариную точку.
Распалась молния на штанах Мими, и посреди иссохшей пустыни Туз угодил в некое средоточие, в наполненный магматической влагой родник, – такой живой, что хотелось бесконечно пребывать в этом источнике всего, внимая колокольчикам, чуть тенькавшим в большом небесном кругу. Вновь, как в Парке культуры, ощутил дрожь и трепетание земной оси. Более того – разлом коры, о котором толковал Ра. Поистине под ним была геологически активная зона. Мими содрогнулась изгибно-колебательно – на дюжину баллов по шкале Рихтера. Ускользая, как слабый оттиск папоротника, сливаясь с землей, сжато вскрикнула: «Мез-з-о-з-з-ой!» А потом сказала со вздохом, словно расчертила на века глиняную табличку клинописью: «Ты попрал мою архегонию во время запуска космического зонда»…
Пока Туз провожал ее до палатки, она мурлыкала на ухо, как кошка, приручить которую невозможно: «Что есть любовь? Ее происхожденье от любого. То есть любой, кто возбуждает страсть и желание, может быть возлюбленным. Тот, который при свободе выбора нравится чуть больше прочих»…
На другой день он смотрел, как Мими, подобно голой щуке, плещется в укрытом камышами арыке, смывая вчерашнюю ночь, – вокруг нее лепетала и зацветала, как от хламидомонад, вода. Туз размечтался об арычной любви, о нежно бормочущих дождях и шепчущем снеге, когда из своей палатки вышел Ра с перебинтованной головой и початой бутылкой «Чашмы». «Что-то хеакнулось в ночи с небес. Навеное, ступень акеты. Все хенов космодом», – бормотал он.
Заметив Туза, совсем утратил ясность произношения: «Дуак! Иуда! Катись отсюда, пока жив-здоов! – и перешел на потусторонний некроязык, звучавший как ведовское заклятие: – Ауя уя ауя!»